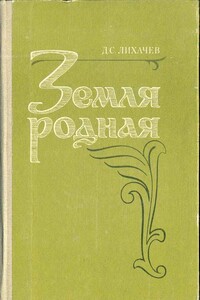Нам дали хлеба на несколько дней, мы снова ели из наших алюминиевых плошек и опять много, хотя чувство голода не проходило ни на минуту.
Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали очень долго, так как тюков у всех было много, но ничего не пропало.
Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами. Досок для нар не хватало и надо было их достать. Доски мы с Дмитрием Павловичем и Стратановским достали, но все же их не хватало; в нарах были большие щели, спать в пути было очень неудобно. Мы спали наверху, внизу – Тамара и Стратановский. С другой стороны теплушки наверху спали Каллистовы. Тюки наши сложены под нары и посреди теплушки. Эшелон тронулся. Первая большая остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против Гостиного двора на площади была немцами не тронута.
По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.
В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это – другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.
Были ли ленинградцы героями? Не только ими: они были мучениками…
Задача этой главы моих воспоминаний не восстановить историю «проработок», охватившую три десятилетия, имеющую предысторию и постисторию. Это потребовало бы обращения к документам (может быть, сохранившимся стенограммам и другим материалам), газетам и журналам того времени. В мою задачу не может входить и выяснение смысла «проработок», их идеологической основы: по-моему, в них было много бессмыслицы, вызванной исключительно стремлением партийных организаций показать свою власть, твердость и готовность руководить тем, чего они, по существу, не понимали.
В этой главе я коснусь, в основном, техники «проработок», их психологического воздействия на «неорганизованную массу» ученых и неученых, учеников и учителей. «Проработки» являлись гласным доносительством, давали свободу озлобленности и зависти. Это был шабаш зла, торжество всяческой гнусности, когда люди (по крайней мере, часть из них) даже стремились прослыть мерзавцами, ища упоения в ужасе, внушаемом ими окружающим. Это было своего рода массовое душевное заболевание, постепенно охватившее всю страну. Люди не стыдились быть стукачами. Даже намекали на свою особую власть.
«Проработки» 30–60-х годов входили в определенную систему уничтожения Добра, были – в какой-то мере – тенью показательных процессов конца 30-х годов и учитывали их «опыт». Они были видом расправы с учеными, писателями, художниками, реставраторами, театральными работниками и прочей интеллигенцией.
Во что бы то ни стало надо было «выбить» у жертв «проработок» признание ими своей вины – хотя бы частичное. Никаких доказательств после признания (как и после признания подсудимых на процессах во время большого террора) уже не требовалось, а чем и как достигались эти признания, было не важно. Это было юридическое открытие «академика» Вышинского. Поэтому и на показательных «проработках» интеллигенции надо было деморализовать истязуемого, довести его до такого состояния, когда ему было уже все безразлично и хотелось только побыстрей сойти со сцены, от всего отказавшись.
Поэтому присутствие толпы народа в зале или аудитории, где проходила «проработка», было на руку палачам. Даже если толпа была на стороне истязуемого, была не согласна с обвинениями, негодовала, сочувствовала, – все равно становиться «объектом» зрелища было крайне тяжело. «Проработки» собирали сотни студентов, просто любопытных: ведь будут «сечь» известных людей, авторов многих трудов, привыкших к благодарности слушателей и читателей. Если кто-то из выступавших стремился смягчить обвинения, ограничивался словами, которые уже звучали, – было уже неважно. Уже самим фактом своего участия они деморализовали обвиняемых.