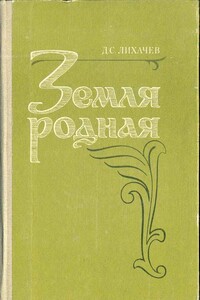Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Пери. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире, перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат; для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки листьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно – эпидемий весной не было. Были только дистрофические поносы, потрепавшие почти всех (мы убереглись).
Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой (она была там же, где и сейчас – рядом с Институтом этнографии). Два раза надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же на набережной, в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того, как ее съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, так как трамваи ходили очень редко, но хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец, я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволочил. Сразу наступила страшная слабость, и я долго (несколько недель) с трудом мог передвигать ноги: колени дрожали.
В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.
Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования: блокадный Ленинград перекликался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Старо-Невский, туда, где когда-то помещался Сиротский дом. Когда угрозы не помогли (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.
Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне: двойным кольцом – внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал Аркаша, находившийся на «Ораниенбаумском пятачке».
Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек (книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли, и встретил следователя; он вызвал меня на Старо-Невский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Старо-Невского долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.