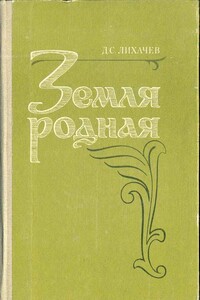Приемная у Крыленки была переполнена. Пожилая (или казавшаяся мне тогда пожилой) женщина сразу подошла ко мне, как к знакомому, взяла у меня письмо Карпинского, которого я даже хорошенько и прочесть не успел, и строго сказала: «Стойте здесь (место она мне обозначила на виду у всех), и как бы вас не бранил Николай Васильевич – молчите и ничего не отвечайте и не отрицайте». Я был немного удивлен: ведь остальных Крыленко принимал в кабинете. Вскоре из кабинета выскочил (вернее, выкатился) коренастый, плотный, даже немного полноватый человек со «спортсменскими» движениями и сразу набросился на меня, как мне показалось, с кулаками: «Мы революцию делали! Мы кровь проливали! Судьба человечества решается! А вы дурака валяли! “Космическую академию” устраивали! Над нами потешались, что ли? Этому безобразию слов нет!» И т. д. и т. п. Словоизвержение продолжалось несколько минут. После, держа ходатайство в руках, он с такой же быстротой влетел в свой кабинет, а секретарь, поманив меня рукой к своему столу, стала меня спрашивать: номер бывшего паспорта, домашний адрес, место работы, адрес работы, служебный телефон Валерианова и пр. Велела ждать в Ленинграде и сообщить ей, если меня тронут. Все это тихим голосом и как бы по секрету. В тот же день я вернулся в Ленинград. Я ждал несколько месяцев. Никто и никуда меня не вызывал.
В разгар лета меня позвали на почту и вручили конверт из ЦИКа. Там находилась бумага о снятии с меня судимости.
Полвека я думал: «Ну, все!», – но оказалось (в 1992 году), что это не реабилитация.
Правда, недоразумения бывали только тогда, когда возникали вопросы о прописке – в Казани сперва, в Ленинграде после…
Сперва мне было непонятно – зачем нужна была вся эта явно разыгранная сцена в приемной? Когда вскоре Крыленко арестовали, я понял. За Крыленкой уже следили, и он боялся явных обвинений в покровительстве «каэрам». Он демонстрировал перед всей толпой в приемной свою полную преданность советской власти. Не скажу, что эта демонстрация была для меня особенно приятна, но своего она достигла, и Екатерине Михайловне Мастыке я до гроба обязан.
Конечно, положение корректора было самым «выгодным», вернее, безопасным в условиях террора 30-х годов. Можно не разговаривать, молча работать. Только не пропуская ошибок! Был единственный неприятный случай. И. П. Павлов решил издавать тоненькие брошюрки трудов своего института. Не помню – как называлась та серия. Ее поручили мне. И в первой же фразе первой брошюры я как-то изменил смысл – то ли запятую поставил не там; то ли исправил ошибку не так. Одним словом, пришел сын Павлова к директору издательства Михаилу Валериановичу Валерианову с претензией. Меня вызвали к Валерианову. Сын молчал, Валерианов в мягкой форме мне выговаривал. Смысл фразы действительно изменился. Я был чрезвычайно расстроен, но через день-два сын Павлова явился снова и сообщил Валерианову, что, хотя смысл и изменен, но Иван Петрович не в претензии. Я понял, что эта последняя акция была просто проявлением доброты сына или отца, а вернее всего – обоих. Не случайно сын молча меня разглядывал, когда Валерианов делал мне выговор, – молча и, как мне показалось, даже с сочувствием.
Но это был единственный неприятный случай, непосредственно связанный с работой.
В 1935 году вышла моя первая серьезная статья в сборнике «Язык и мышление» – «Черты первобытного примитивизма воровской речи». Она вызвала разгромную рецензию Михаила Шахновича «Вредная галиматья» в «Ленинградской правде». Вслед за такими статьями обычно шел арест. Но лингвисты (Абаев, Быховская, Башинджагян и другие) отнеслись к моей работе с интересом. Я решил попробовать счастья и сдавать экзамен в аспирантуру Института речевой культуры. К тому времени мой соделец с одинаковым удостоверением об освобождении из Беломорско-Балтийского лагеря без всяких дальнейших ограничений – Дмитрий Павлович Каллистов – был принят в аспирантуру Ленинградского университета. Чем я хуже его, думалось мне, забывая, что за него хлопотал декан исторического факультета Борис Дмитриевич Греков.