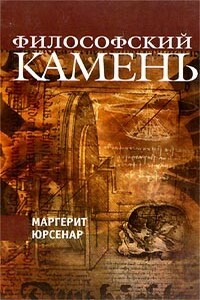Должен признаться, я мало верю в благотворность законов. Когда законы слишком суровы, люди стараются их обойти, и это разумно. Когда они слишком сложны, людская изобретательность легко находит возможность проскользнуть между ячейками этой громоздкой и непрочной сети. Уважение к ветхим законам коренится в глубинных пластах человеческого благочестия; оно служит также удобным оправданием инертности судей. Самые древние из этих законов ведут свое происхождение от той дикости, исправлять которую они призваны; самые почитаемые из них по-прежнему остаются порождением силы и произвола. Большинство наших уголовных законов — может быть, к счастью — карает лишь малую долю виновных; наши гражданские установления никогда не будут достаточно гибкими, чтобы их можно было применять ко всему огромному и зыбкому многообразию фактов. Законы изменяются медленнее, чем обычаи; достаточно опасные, когда они от обычаев отстают, они делаются еще опаснее, когда пытаются их опередить. И все же из этого нагромождения рискованных новшеств и обветшалых привычек то здесь, то там, как в медицине, на поверхность выступает несколько полезных формул. Греческие философы научили нас глубже постигать человеческую природу; вот уже несколько поколений наших лучших юристов стремятся привести законы к здравому смыслу. Я сам занимался некоторыми из этих половинчатых реформ — только они одни и оказываются долговечными. Всякий закон, который слишком часто преступают, — плохой закон; законодателю надлежит упразднить или изменить его, дабы презрение, с которым люди начинают относиться к этому нелепому установлению, не распространилось на другие, более справедливые законы. Я поставил себе целью во имя благоразумия отказаться от бесполезных законов и сохранить небольшое число широко обнародованных разумных актов… Я чувствовал, что пришло время в интересах гуманности подвергнуть переоценке все старые законоположения.
Однажды в Испании, в окрестностях Таррагоны, когда я в одиночестве, без сопровождения, посетил полузаброшенный рудник, один из рабов, почти вся жизнь которого прошла в этих подземных галереях, бросился на меня с ножом. Вопреки всякой логике он попытался выместить на императоре страдания своего сорокатрехлетнего рабства. Я легко его обезоружил и передал своему врачу; его ярость тут же улеглась, и он превратился в того, кем на самом деле и был, — в существо ничуть не глупее других и гораздо надежнее многих. Этот преступник, которого, если бы я применил тогда суровую статью закона, казнили бы на месте, сделался впоследствии полезным для меня слугой. Большинство людей похожи на этого раба: они угнетены сверх всякой меры, и потому долгие годы отупения сменяются у них внезапным бунтом, столь же неистовым, сколь бесполезным. Мне хотелось увидеть, приводит ли к таким вспышкам предоставленная в разумных пределах свобода, и было удивительно, что подобный опыт не прельстил и других государей. Этот осужденный на работу в рудниках варвар стад для меня символом всех наших рабов. Не было ничего невозможного в том, чтобы поступить с ними так же, как я обошелся с этим человеком, сделать их безопасными с помощью доброты — при том условии, что им заранее будет известно, сколь тверда разоружившая их рука. Народы гибли потому, что им не хватало великодушия; Спарта прожила бы гораздо дольше, если бы это было выгодно илотам; Атлант не пожелал в один прекрасный день больше держать на себе тяжесть небесного свода, и его бунт сотряс землю. Мне хотелось по мере возможности оттянуть — а то и вовсе избежать — наступление того момента, когда варвары извне, а рабы изнутри обрушатся на мир, в отношении которого их принуждают блюсти почтительность и смирение, но все блага которого — не для них. Я стремился к тому, чтобы самому обездоленному из людей — рабу, выгребающему в городах нечистоты, голодному варвару, рыскающему возле наших границ, — было на пользу укрепление и благоденствие Рима.
Думаю, что вся философия мира не в силах отменить рабство; самое большее, что можно сделать, — это по-другому назвать его. Я вполне могу представить себе иные, чем наши, формы порабощения, куда худшие в силу своей большей завуалированности. Либо людей превратят в тупые, довольные своим существованием машины и они станут считать себя свободными, тогда как они полностью порабощены, либо у них сумеют развить, помимо обычных человеческих наклонностей, всепоглощающую страсть к работе, столь же неистовую, как тяга к войне у некоторых варварских племен. Этой порабощенности духа и человеческого воображения я предпочитаю наше реальное рабство. Но, как бы то ни было, ужасное состояние, ставящее одного человека в полнейшую зависимость от другого, требует тщательной законодательной регламентации, Я следил за тем, чтобы раб не был больше безымянным товаром, который продают, не заботясь о его семейных связях, не считался бы презренным существом, чьи показания судья запишет лишь после того, как подвергнет несчастного пытке, вместо того чтобы просто привести его к присяге. Я запретил принуждать рабов к позорному или опасному ремеслу, продавать их содержателям публичных домов или в школы гладиаторов. Пусть такими профессиями занимаются лишь те, кому они нравятся, — это только пойдет на пользу делу. В поместьях, управляющие которых злоупотребляли силой, я по мере возможности заменил рабов свободными арендаторами. Наши сборники анекдотов полны историй о том, как гурманы бросают своих слуг на съедение муренам, но подобного рода вопиющие и легко наказуемые преступления — капля в море по сравнению с тысячами мелких безобразий и гнусностей, ежедневно творимых честными, но бессердечными людьми, и это ничуть никого не тревожит. Люди негодовали, когда я изгнал из Рима богатую и всеми уважаемую патрицианку, которая истязала своих старых рабов; общественную совесть куда больше возмущает небрежение неблагодарных детей к престарелым родителям, но я не вижу большого различия между этими двумя формами бесчеловечности.