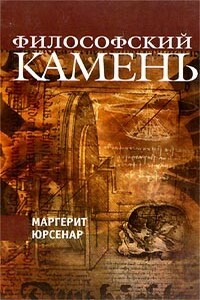Все лето я внимательно читал его официальные донесения, а также секретные письма, присылаемые Домицием Рогатом, моим доверенным, которого я назначил секретарем Луция, чтобы он присматривал за ним. Отчетами я был вполне доволен: Луций проявил в Паннонии всю серьезность, которая от него требовалась и от которой он, быть может, избавился бы после моей смерти. Он хорошо показал себя также в нескольких конных схватках на аванпостах. В провинции ему, как и всюду, удалось всех обворожить; свойственная ему высокомерная сухость тоже шла ему на пользу; во всяком случае, он не стал одним из тех простоватых государственных мужей, которые легко оказываются игрушкой в руках интриганов. В начале осени Луций простудился. Поправился он быстро, но вскоре кашель начался снова; появился жар, который никак не проходил и сделался постоянным. Следующей весной за кратковременным улучшением последовал внезапный рецидив. Врачебные сводки ошеломили меня; вся махина государственной почты, которую я незадолго перед тем учредил на огромнейших территориях — с подставами для смены лошадей и колесниц, — казалось, действовала теперь только ради того, чтобы каждое утро доставлять мне как можно скорее свежие новости о нашем больном. Я не мог простить себе того, что из боязни показаться чересчур снисходительным был так бесчеловечно жесток к Луцию. Как только он достаточно оправился, чтобы выдержать путешествие, я приказал перевезти его в Италию.
В сопровождении старого Руфа Эфесского, специалиста по легочным заболеваниям, я сам отправился в Байи, чтобы встретить в порту моего хрупкого Элия Цезаря. Климат в Тибуре лучше, чем в Риме, но для больных легких он все же недостаточно мягок; я решил заставить Луция провести позднюю осень в этих более благоприятных для здоровья краях. Корабль бросил якорь посреди залива; лодка доставила на берег больного вместе с врачом. Его посуровевшее лицо казалось еще более худым из-за бороды, которой, точно мхом, поросли его щеки; он отпустил ее для того, чтобы больше походить на меня. Но глаза Луция по-прежнему сохраняли жесткий блеск драгоценного камня. Первым его побуждением было напомнить мне, что он возвратился лишь по моему приказу; службу свою он нес безупречно, повиновался мне полностью и во всем. Он был словно школьник, который отчитывается перед учителем, как он провел день. Я поместил его на той же вилле, где он прожил вместе со мною целое лето, когда ему было восемнадцать лет; у него хватило такта никогда не заговаривать со мной о тех временах. В первые дни мне показалось, что недуг отступил; уже само возвращение в Италию было хорошим лекарством; в эту пору года здесь все становится розовым и пурпурным. Но вот начались дожди; с серого моря подул влажный ветер; в старом доме, построенном еще во времена Республики, не было тех удобств, какие имелись на тибурской Вилле; я видел, как Луций печально греет над жаровней свои длинные, унизанные перстнями пальцы. Гермоген вернулся незадолго до этого с Востока, куда я посылал его, чтобы он обновил и пополнил там свои лекарственные запасы; он испытал на Луций целебность грязи, пропитанной сильнодействующими минеральными солями; считалось, что это средство помогает при всех болезнях, но легким Луция оно принесло не больше пользы, чем моим артериям.
Болезнь обнажила все самые худшие стороны этой черствой и непостоянной натуры; его навестила жена, и это свидание, как всегда, закончилось тем, что они наговорили друг другу много обидных слов. Больше она не появлялась. Луцию привели сына, прелестного мальчика семи лет, беззубого и смешливого; отец встретил его равнодушно. Он с жадностью расспрашивал о политических новостях в Риме, но интересовался ими как игрок, а отнюдь не как государственный деятель. Однако его легкомыслие было по-прежнему формой мужества; к вечеру он словно пробуждался после целого дня оцепенения или страданий, чтобы безоглядно отдаться беседе, и делал это с таким же искрящимся блеском, как и прежде; едва завидев врача, он заставлял свое исхудавшее тело приподниматься. Он до конца оставался принцем из золота и слоновой кости.