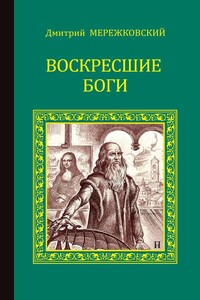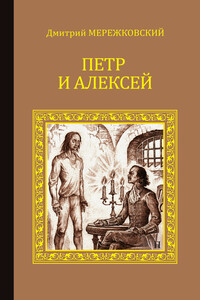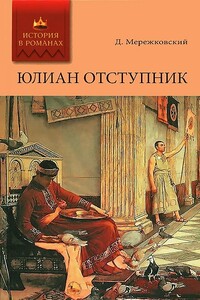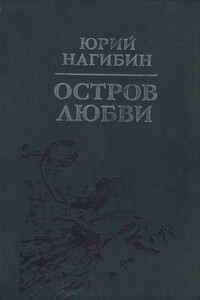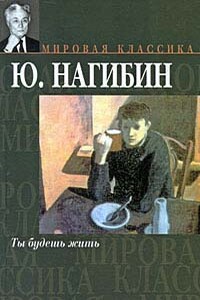II
Она привыкла одеваться так долго, что, по выражению герцога, можно было бы за это время снарядить целый торговый корабль в Индию.
Наконец, услышав вдалеке звук рогов и лай борзых, вспомнила, что заказала охоту, и заторопилась. Но, уже готовая, по дороге зашла в покои своих карликов, названные в шутку «жилищем гигантов» и устроенные в подражание таким же игрушечным комнатам во дворце Изабеллы д’Эсте.
Стулья, кровати, утварь, лесенки с широкими низкими ступенями, даже часовня с кукольным алтарем, за которым служил обедню ученый карлик Янаки, в нарочно сшитых для него архиепископских ризах и митре, – все было рассчитано на рост пигмеев.
В «жилище гигантов» всегда был шум, смех, плач, крик разнообразных, порой страшных голосов, как в зверинце или сумасшедшем доме, ибо здесь копошились, рождались, жили и умирали в душной неопрятной тесноте – мартышки, горбуны, попугаи, арапки, дуры, калмычки, шутихи, кролики, карлики и другие потешные твари, среди которых молодая герцогиня нередко проводила дни, забавляясь, как девочка.
На этот раз, спеша на охоту, зашла она сюда только на минутку, сведать о здоровье маленького арапчонка Наннино, недавно присланного из Венеции. Кожа у Наннино была такой черноты, что, по выражению прежнего владельца его, «лучшего и желать невозможно». Герцогиня играла им, как живою куклою. Арапчонок заболел. И хваленая чернота его оказалась не совсем природною, ибо краска, вроде лака, которая придавала телу его черный блестящий лоск, мало-помалу начала слезать, к великому горю Беатриче.
В последнюю ночь ему сделалось хуже; боялись, что он умрет. Узнав об этом, герцогиня весьма опечалилась, ибо любила его, по старой памяти, даже побледневшего. Она велела как можно скорее крестить арапчонка, чтобы он, по крайней мере, не умер язычником.
Спускаясь, на лестнице встретила она свою любимую дурочку Моргантину, еще не старую, хорошенькую и такую забавную, что, по словам Беатриче, она могла бы рассмешить мертвеца.
Моргантина любила воровать: украдет что-нибудь, спрячет в угол, под сломанную половицу, в мышиную норку, и ходит, довольная; когда же спросят ее с лаской: «Будь доброю, скажи, куда спрятала?» – возьмет за руку, с лукавым видом, поведет и покажет. А если крикнуть: «Ну-ка, речку вброд», – Моргантина, не стыдясь, подымает платье так высоко, как только может.
Порой находила на нее дурь; тогда по целым дням плакала она о несуществующем ребеночке, – никаких детей у нее не было, – и так всем надоедала, что ее запирали в чулан.
И теперь, сидя в углу лестницы, обняв колени руками и равномерно покачиваясь, Моргантина заливалась горькими слезами.
Беатриче подошла и погладила ее по голове.
– Перестань, будь умницей!
Дурочка, подняв на нее свои голубые детские глаза, завыла еще жалобнее:
– Ой, ой, ой! Отняли у меня родненького! И за что, Господи? Никому он не делал зла. Я им тихо утешалась...
Герцогиня сошла во двор, где ее ждали охотники.
III
Окруженная вершниками, сокольничими, псарями, стремянными, пажами и дамами, она держалась прямо и смело на караковом поджаром берберийском жеребце завода Гонзага не как женщина, а как опытный наездник. «Настоящая королева амазонок!» – с гордостью подумал герцог Моро, вошедший на крытый ход перед дворцом полюбоваться выездом супруги.
За седлом герцогини сидел охотничий леопард в ливрее, шитой золотом, с рыцарскими гербами. На левой руке – белый как снег кипрский сокол, подарок султана, сверкал усыпанным изумрудами золотым клобучком. На лапах его звенели бубенцы разнозвучными, переливчатыми звонами, которые помогали находить птицу, когда терялась она в тумане или болотной траве.
Герцогине было весело, хотелось шалить, смеяться, скакать сломя голову. Оглянувшись с улыбкой на мужа, который успел только крикнуть: «Берегись, лошадь горячая!» – она сделала знак своим спутницам и помчалась вперегонки с ними, сначала по дороге, потом в поле – через канавы, кочки, рвы и плетни.
Доезжачие отстали. Впереди всех неслась Беатриче со своим громадным волкодавом и рядом, на черной испанской кобыле, самая веселая и бесстрашная из фрейлин, мадонна Лукреция Кривелли.