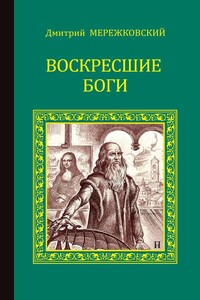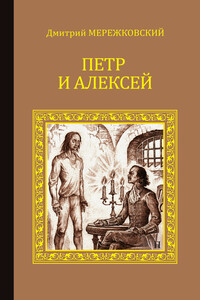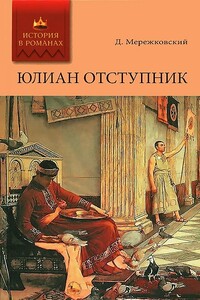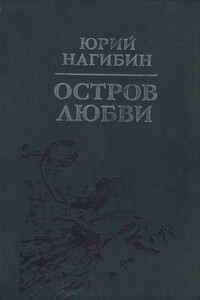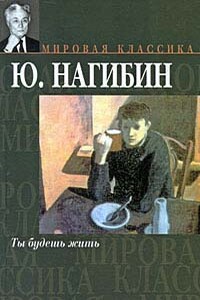Выразительными движениями, так что лошадь под ним шарахалась, показывал Ивашка, как он ее «мякнул» и как «заразил».
– Да, – молвил с важностью Ушак, любитель книжного витийства, – зело потеха сия полевая утешает сердца печальные; угодна и хвальна кречатья добыча, красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет!
Впереди, в некотором расстоянии от возка, ехали, тоже верхом, Илья Копыла и Евтихий Гагара.
У Ильи Потапыча лицо было темное, строгое, борода белая как лунь и такие же белые волосы; все дышало в нем благообразною степенностью; только в маленьких зеленоватых слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость и пронырство.
Евтихий был человек лет тридцати, такой тщедушный, что издали казался мальчиком, с острою, жидкою бородкою клином и незначительным лицом, одним из тех лиц, которые трудно запомнить. Лишь изредка, когда оживлялся он, в серых глазах его загоралось глубокое чувство.
Федьке надоело слушать о соколах и шилохвостях. Несмотря на раннее утро, не раз уже прикладывался он к дорожной сулее, и, как всегда в таких случаях, язык у него чесался от желания поспорить – «повысокоумничать».
По отдельным долетавшим до него словам понял он, что ехавшие впереди Гагара и Копыла беседуют об иконном художнике, – пришпорил коня, догнал их и прислушался.
– Ныне, – говорил Илья Потапыч, – икон святых изображения печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свои украшают небрежно, не почитания, но пригожества ради, без страха Божия, которые листы, резав на досках, печатают немцы да фрязи-еретики, по своему проклятому мнению, развращенно и неистово, наподобие лиц страны своей и в одеждах чужестранных, фряжских, а не с древних православных подлинников. Еще и Пресвятую Богородицу пишут иконники с латинских же образцов с непокровенною главою, с власами растрепанными...
– Как же так, дядюшка? – отхлебнув из сулеи, вступился Федька с притворною почтительностью, с тайным вызовом. – Неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобию и свято и лепо?
– Не гораздо ты, Федька, о святых иконах мудрствуешь, – остановил его Копыла, нахмурившись. – Стропотное говоришь и развращенное!
– Почему же стропотное, дядюшка? – притворился Федька обиженным.
– А потому, что пределов вечных прелагать не подобает: кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался.
– Да ведь я не о вере, Потапыч. Я только говорю: преоспектива есть дело полезное и меду сладчайшее...
– Что ты мне преоспективу свою в глаза тычешь? Заладила сорока Якова... Сказано: кроме предания святых отцов, не дерзать. Слышишь? В преоспективе ли, в ином чем, своим замышлением ничего не претворят. Где новизна, там и кривизна.
– Твоя правда, дядюшка, – опять увернулся Федька с лицемерною покорностью. – Я и то говорю: много нынче иконники пишут без рассуждения, без разума, а надобно писать да вопросу ответ дать. Сказано: подлинно изыскивать подобает, как древние мастера писали. Да вот беда: древних-то много: и новгородские, и корсунские, и московские – всяк на свой лад. Да и подлинники разные. В одних одно, в других другое. Ин старое кажется новым, ин новое старым. Вот и поди тут разбери, где старина, где новизна. Нет, Потапыч, воля твоя, а без своего умышления, без разума, мастеру доброму быть нельзя!
Старик, озадаченный неожиданностью обхода, на минуту опешил.
– Опять же и то, – продолжал Федька, пользуясь его смущением, с еще большею смелостью, – где таковое указание нашли, будто бы единым обличием, смугло и темновидно святых иконы писать подобает? Весь ли род человеческий в одно обличие создан? Все ли святые скорбны и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто бы темноту более света чтить достоит? Мрак и очадение на единого дьявола возложил Господь, а сынам Своим, не только праведным, но и грешным, обещал светоподание: «яко снег, убелю вас и яко ярину, очищу». И в другой раз: «Аз есмь свет истинный, ходяй по Мне не имать ходити во тьме». И у пророка сказано: «Господь воцарился, в лепоту облекся».
Федька говорил хотя не без книжного витийства, но искренно.