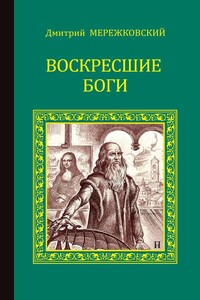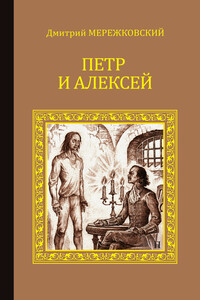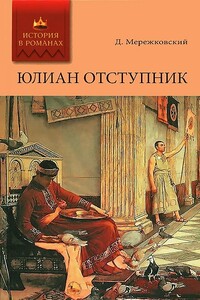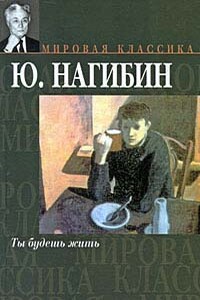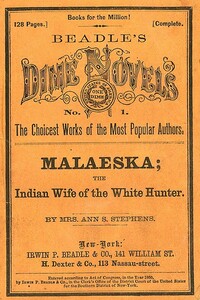И хуже всего было то, что в своем падении он все еще был велик, обольстительно прекрасен, не только для толпы, но и для избранных. Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья с простодушною беспечностью, оставался чистым и невинным, как дитя. «Счастливый мальчик» сам не ведал, что творит.
И пагубнее для грядущего искусства, чем разлад и хаос Микеланджело, была эта легкая гармония Санти, академически мертвое, лживое примирение.
Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему – далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека, – и, выйдя из него, уничтожали его.
Погруженный в эти мысли, шел он по-прежнему, словно в забытьи, потупив глаза, опустив голову.
Франческо пытался заговорить с ним, но слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бесконечной брезгливости.
Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестьдесят, пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу по тесной улице Борго-Нуово.
Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одетого роскошнее других, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными каменьями. Где-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил тщедушного, бледного мальчика в черном камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который лет восемь назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: «Микеланджело недостоин развязать ремень вашей обуви, мессер Леонардо!» Это был он, теперешний соперник Леонардо и Микеланджело, «бог живописи» – Рафаэль Санти.
Лицо его, хотя все такое же детское, невинное и бессмысленное, уже несколько менее, чем прежде, походило на лицо херувима – едва заметно пополнело, отяжелело и обрюзгло.
Он ехал из своего палаццо в Борго на свидание к папе в Ватикан, сопровождаемый, по обыкновению, друзьями, учениками и поклонниками: никогда не случалось ему выезжать из дома, не имея при себе почетной свиты человек в пятьдесят, так что каждый из этих выездов напоминал триумфальное шествие.
Рафаэль узнал Леонардо, чуть-чуть покраснел и, с поспешною, преувеличенною почтительностью, сняв берет, поклонился. Некоторые из учеников его, не знавшие в лицо Леонардо, с удивлением оглянулись на этого старика, которому «божественный» так низко кланяется, – скромно, почти бедно одетого, прижавшегося к стене, чтобы дать им дорогу.
Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека, шедшего рядом с Рафаэлем, среди ближайших учеников его, и вглядывался в него с недоумением, как будто глазам своим не верил: это был Чезаре да Сесто.
И вдруг понял все – отсутствие Чезаре, свою вещую тревогу, неискусный обман Франческо: последний ученик предал его.
Чезаре выдержал взор Леонардо и посмотрел ему в глаза с усмешкою дерзкою и в то же время жалкою, от которой лицо его болезненно исказилось, сделалось страшным, как лицо сумасшедшего.
И не он, а Леонардо, в невыразимом смущении, потупил глаза, точно виноватый.
Поезд миновал. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутника. Лицо его было бледно и спокойно.
Перейдя через мост Сант-Анжело, по улице Деи Коронари, вышли на площадь Навоне, где был птичий рынок.
Леонардо накупил множество птиц – сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при нем, и еще занял у Франческо.
С головы до ног увешанные клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя внимание. Прохожие с любопытством оглядывались; уличные мальчишки бежали за ними.
Пройдя весь Рим, мимо Пантеона и Траянова Форума, вышли на Эсквилинский холм и через ворота Маджоре – за город, по древней римской дороге, Виа-Лабикана. Потом свернули на узкую пустынную тропинку – в поле.