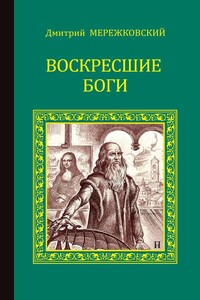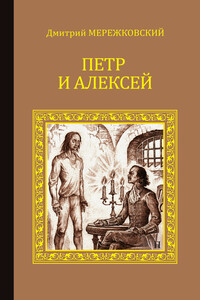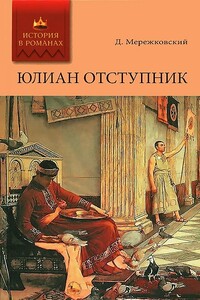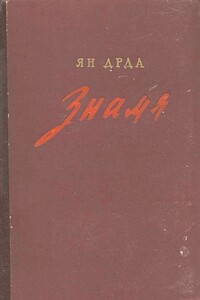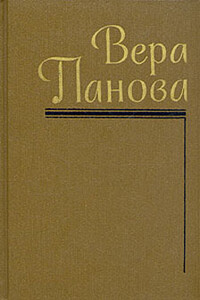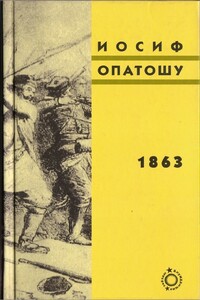Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность математического прибора. Никому не известные разделения вен, скрытые в соединительных тканях или в слизистых оболочках, тончайшие кровеносные сосуды и нервы, разветвленные в мышцах и мускулах, ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его – такая сильная, что гнула подковы, такая нежная, что улавливала тайну женственной прелести в улыбке Джоконды.
И Марко-Антонио, не желавший верить ни во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом.
Иногда художник говорил себе: «Так должно быть, так хорошо». И когда, исследуя, убеждался, что действительно так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина – красотою.
Чувствуя, что Леонардо предается и науке, как всему, только на время и сохраняет свободу для новых увлечений, точно играя, Марко-Антонио вместе с тем видел, какого бесконечного терпения, какой «упрямой суровости» требует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавою.
«И ежели ты имеешь любовь к науке, – обращался Леонардо в своих заметках к читателю, – не помешает ли тебе чувство брезгливости? И ежели ты преодолеешь брезгливость – не овладеет ли тобою страх в ночные часы перед мертвецами, истерзанными, окровавленными? И если победишь ужас, окажется ли у тебя сокровенно ясный предварительный замысел, необходимый для такого изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаешь ли ты знанием перспективы? И ежели оно есть у тебя, владеешь ли ты приемами геометрических доказательств и потребными сведениями в механике для измерения сил и напряжения мускулов? И, наконец, хватит ли у тебя самого главного – терпения и точности? Насколько я обладаю всеми этими качествами, покажут сто двадцать книг Анатомии , которые я сочинил. И причина того, что я не привел труда моего к желанному концу, – не корысть или небрежность, а только недостаток времени.
Точно так же, как до меня Птоломей описывал мир в своей Космографии , я описываю человеческое тело – эту маленькую вселенную – мир в мире».
Он предчувствовал, что труды его, если б были узнаны и поняты людьми, произвели бы величайший переворот в науке, ждал «последователей», «преемников», которые могли бы оценить в его рисунках «благодеяние, оказанное им человеческому роду».
«Пусть книга о началах механики, – писал он, – предшествует твоему исследованию законов движений и сил человека и других животных, дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометрическою».
Он рассматривал члены людей и животных как живые рычаги. Корни всякого знания погружались для него в механику, которая была воплощением «дивной справедливости Первого Двигателя». И благая воля Первого Строителя вытекала из правосудной воли Первого Двигателя – Тайны всех тайн.
Рядом с математической точностью у Леонардо были догадки, предчувствия, пророчества, которые пугали Марко-Антонио своею смелостью, казались ему невероятными, подобно тому, как человеку, видящему горы в первый раз, далекие вершины кажутся облаками, висящими в воздухе, и трудно ему поверить, что у этих призраков – корни гранитные, уходящие в сердце земли.
Изучая на трупах беременных женщин последовательные ступени развития зародыша в матке, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животных, не только четвероногих, но и рыб и птиц.
«Сравни человека, – писал он, – с обезьяною и многими другими животными почти той же породы. Сравни внутренности человека с внутренностями обезьяны, и льва, и быка, и рыб, и птиц. Сравни пальцы человеческой руки с пальцами медвежьей лапы, с хрящами рыбьих плавников, с кистями птичьих крыльев и крыльев летучей мыши.
Тому, кто обладает совершенным знанием строения человеческого тела, легко быть всеобъемлющим, ибо члены всех животных сходствуют».
В многообразии телесных строений прозревал он единый закон развития, единый связующий замысел природы.
Марко-Антонио спорил, горячился, называл догадки эти бреднями, не достойными ученого и противными духу точного знания; но иногда, побежденный, как бы очарованный, умолкал и слушал. В эти минуты детски нежное и монашески строгое лицо его было прекрасно. И, глядя в глубокие, всегда печальные глаза его, Леонардо чувствовал, что этот затворник науки – не только жрец ее, но и жертва: для него великая скорбь была «дочь великого познания».