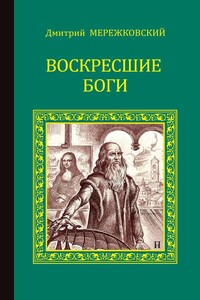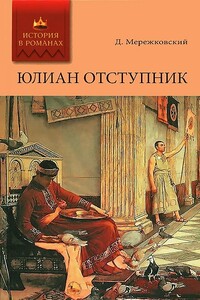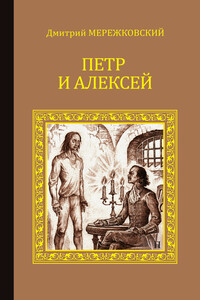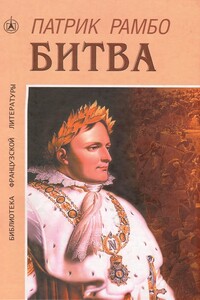Голос его дрожал, глаза горели почти ненавистью, лицо исказилось как бы от нестерпимой боли.
Леонардо молчал. В душе его проходили ясные, детские мысли, такие простые, что он не сумел бы их выразить: он смотрел на голубое небо, сиявшее сквозь трещины стен Колизея, и думал о том, что нигде не кажется лазурь небес такой вечно юной и радостной, как в щелях полуразрушенных зданий.
Некогда завоеватели Рима, северные варвары, не умевшие добывать руду из земли, вынули железные скрепы, соединявшие камни в стенах Колизея, чтобы древнее римское железо перековать на новые мечи; и птицы свили себе гнезда в отверстиях вынутых скреп. Леонардо следил, как черные галки, слетаясь на ночлег с веселыми криками, прятались в гнезда, и думал о том, что миродержавные кесари, воздвигавшие это здание, варвары, разрушавшие его, не подозревали, что трудятся для тех, о которых сказано: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их.
Он не возражал Макиавелли, чувствуя, что тот не поймет, ибо все, что для него, Леонардо, было радостью, для Никколо было скорбью; мед его был желчью Никколо; великая ненависть – дочерью великого познания.
– А знаете ли, мессер Леонардо, – произнес Макиавелли, желая, по обыкновению, кончить разговор шуткою, – я теперь только вижу, как ошибаются те, кто считает вас еретиком и безбожником. Попомните слово мое: в день Страшного суда, как разделят нас на овец и на козлищ, быть вам со смиренными овечками Христовыми, быть вам в раю со святыми угодниками!
– И с вами, мессер Никколо! – подхватил художник, смеясь. – Если уж я попаду в рай, то и вам не миновать.
– Ну нет, слуга покорный! Заранее уступаю место мое всем желающим. Довольно с меня скуки земной...
И лицо его вдруг озарилось добродушною веселостью.
– Послушайте, друг мой, вот какой вещий сон приснился мне однажды: привели меня будто бы в собрание голодных и грязных оборванцев, монахов, блудниц, рабов, калек слабоумных и объявили, что это те самые, о коих сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Потом привели меня в другое место, где увидел я сонм величавых мужей, подобных древнему Сенату; здесь были полководцы, императоры, папы, законодатели, философы – Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий; они беседовали о науке, искусстве, делах государственных. И мне сказали, что это ад и души грешников, отвергнутых Богом за то, что возлюбили они мудрость века сего, которая есть безумие пред Господом. И спросили, куда я желаю, в ад или в рай? «В ад, – воскликнул я, – конечно, в ад к мудрецам и героям!»
– Да, если все это в действительности так, как вам приснилось, – возразил Леонардо, – то ведь и я, пожалуй, не прочь...
– Ну нет, поздно! Теперь уж не отвертитесь. Насильно потащат. За христианские добродетели наградят вас и раем христианским.
Когда они вышли из Колизея, стемнело. Огромный желтый месяц выплыл из-за черных сводов базилики Константина, разрезая слои облаков, прозрачных, как перламутр. Сквозь дымную, сизую мглу, расстилавшуюся от Арки Тита Веспасиана до капитолия, три одинокие, бледные колонны перед церковью Мария Либератриче, подобные призракам, в сиянии луны казались еще прекраснее. И дряхло-лепечущий колокол, сумеречный Angelus [45] » (лат. ) – католическая молитва.] еще заунывнее звучал, как похоронный плач, над Римским Форумом.