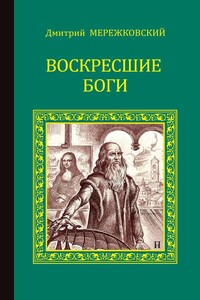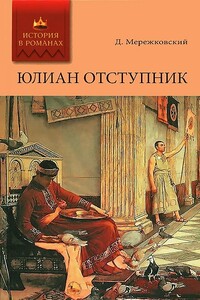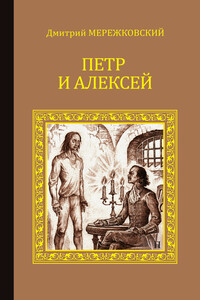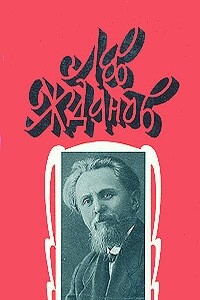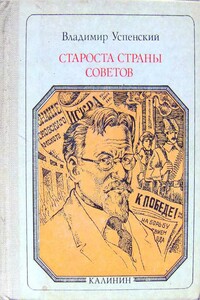«Признавая, – говорилось в ней, между прочим, – пользу печатного станка, изобретения, которое увековечивает истину и делает ее доступной всем, но желая предотвратить могущее произойти для Церкви зло от сочинений вольнодумных и соблазнительных, сим возбраняем печатать какую бы то ни было книгу без разрешения начальства духовного – окружного викария или епископа».
Выслушав буллу, папа обвел взором кардиналов с обычным вопросом:
– Quod videtur? Как полагаете?
– Помимо книг печатных, – возразил Арбореа, – не должно ли принять какие-либо меры и против таких сочинений рукописных, как безымянное письмо к Паоло Савелли?
– Знаю, – перебил папа. – Илерда показывал мне.
– Если вашему святейшеству уже известно...
Папа посмотрел кардиналу прямо в глаза. Тот смутился.
– Ты хочешь сказать: как же не начал я розыска, не постарался уличить виновного? О, сын мой, за что же б я стал преследовать моего обвинителя, когда в словах его нет ничего, кроме истины?
– Отче святый! – ужаснулся Арбореа.
– Да, – продолжал Александр VI голосом торжественным и проникновенным, – прав обвинитель мой! Последний из грешников есмь аз – и тать, и лихоимец, и прелюбодей, и человекоубийца! Трепещу и не знаю, куда скрыть лицо мое на суде человеческом, – что же будет на Страшном судилище Христовом, когда и праведный едва оправдывается?.. Но жив Господь, жива душа моя! И за меня окаянного венчан был тернием, бит по ланитам и распят и умер Бог мой на кресте! Довольно капли крови Его, дабы убелить и такого, как я, паче снега. Кто же, кто из вас, обличители – братья мои, испытал глубины милосердия Божьего так, чтобы сказать о грешнике: осужден? Пусть же праведные судом оправдаются, мы же, грешные, – только смирением и покаянием, ибо знаем, что нет без греха покаяния, без покаяния нет спасения. И согрешу, и покаюсь, и паки согрешу, и паки восплачу о грехах моих, как мытарь и блудница. Ей, Господи, как разбойник на кресте, исповедую имя Твое! И ежели не только люди, может быть, столь же грешные, как я, но и ангелы, силы, начала и власти небесные осудят и отвергнут меня, – не умолкну, не перестану вопить к Заступнице моей, Деве Пречистой, – и знаю, Она меня помилует, помилует!..
С глухим рыданием, потрясшим все тучное тело его, протянул он руки к Божьей Матери в картине Пинтуриккьо над дверью залы. Многие думали, что в этой фреске, по желанию самого папы, художник придал Мадонне сходство с прекрасной римлянкой Джулией Фарнезе [41] , наложницей его святейшества, матерью Чезаре и Лукреции.
Джованни глядел, слушал и недоумевал: что это – шутовство или вера? а может быть, и то и другое вместе?
– Одно еще скажу, друзья мои, – продолжал папа, – не себе в оправдание, а во славу Господа. Писавший послание к Паоло Савелли называет меня еретиком. Свидетельствуюсь Богом живым – в сем неповинен! Вы сами... или нет, вы в лицо мне правды не скажете, – но хоть ты, Илерда, я знаю, ты один меня любишь и видишь сердце мое, ты не льстец, – скажи же мне, Франческо, скажи, как перед Богом, повинен ли я в ереси?
– Отче святый, – произнес кардинал с глубоким чувством, – мне ли тебя судить? Злейшие враги твои, если читали творение папы Александра VI «Щит Святой Римской Церкви», должны признать, что в ереси ты неповинен.
– Слышите, слышите? – воскликнул папа, указывая на Илерду и торжествуя, как ребенок. – Если уж он меня оправдал, значит, и Бог оправдает. В чем другом, а в вольнодумстве, в мятежном любомудрии века сего, в ереси неповинен! Ни единым помыслом, ниже сомнением богопротивным не осквернил я души моей. Чиста и непоколебима вера наша. Да будет же булла сия о цензуре духовной новым щитом адамантовым Церкви Господней!
Он взял перо и крупным, детски неуклюжим, но величественным почерком вывел на пергаменте:
«Fiat. Быть по сему. – Alexander Sextus episcopus servus servorum Dei. – Александр Шестый, епископ, раб рабов Господних».
Два монаха-цистерцианца, из апостолической коллегии «печатников» – пиомбаторе, подвесили к булле на шелковом шнуре, продетом сквозь отверстия в толще пергамента, свинцовый шар и расплющили его железными щипцами в плоскую печать с оттиснутым именем папы и крестом.