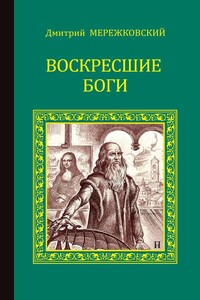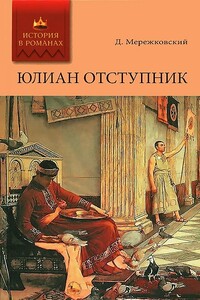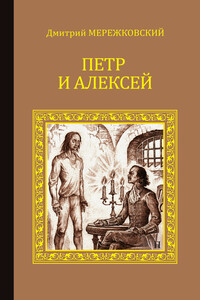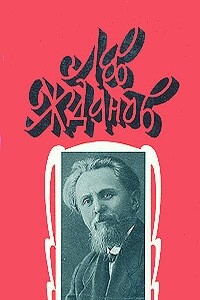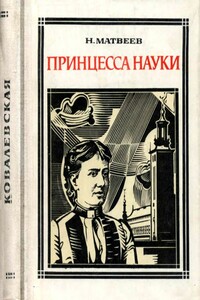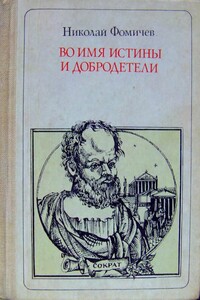С притворным равнодушием возразил Леонардо, что ему теперь некогда и что он за Тайную Вечерю не боится, – картина, будто бы, на такой высоте, что сырость не может причинить ей вреда. Но только что Пачоли ушел, Леонардо побежал в монастырь.
Войдя в трапезную, увидел на кирпичном полу грязные лужи – следы наводнения. Пахло сыростью. Один из монахов сказал, что вода поднялась на четверть локтя.
Леонардо подошел к стене, где была Тайная Вечеря.
Краски оставались по-видимому ясными.
Прозрачные, нежные, не водяные, как в обычной стенописи, а масляные, они были его собственным изобретением. Он приготовил и стену особенным способом: загрунтовал ее слоем глины с можжевельным лаком и олифою, на первый, нижний грунт навел второй – из мастики, смолы и гипса. Опытные мастера предсказывали непрочность масляных красок на сырой стене, сложенной в болотистой низменности. Но Леонардо, со свойственным ему пристрастием к новым опытам, к неведомым путям в искусстве, упорствовал, не обращая внимания на советы и предостережения. От стенописи водяными красками отвращало его и то, что работа на только что наведенной влажной извести требует быстроты и решительности, тех именно свойств, которые были ему чужды. «Малого достигает художник несомневающийся», – утверждал он. Эти необходимые для него сомнения, колебания, поправки, искания ощупью, бесконечная медлительность работы возможны были только в живописи масляными красками.
Наклонившись к стене, он рассматривал в увеличительное стекло поверхность картины. Вдруг в левом нижнем углу, под скатертью стола, за которым сидели апостолы, у ног Варфоломея, увидел маленькую трещину и рядом, на чуть поблекших красках, бархатисто-белый, как иней, налет выступающей плесени.
Он побледнел. Но, тотчас же овладев собой, еще внимательнее продолжал осмотр.
Первый глиняный грунт покоробился вследствие сырости и отстал от стены, приподнимая верхний слой гипса с тонкою корою красок и образуя в ней неуловимые для глаза трещинки, сквозь которые просачивалось выпотение селитренной сырости из ветхих ноздреватых кирпичей.
Участь Тайной Вечери была решена: если самому художнику не суждено было видеть увядания красок, которые могли сохраниться лет сорок, даже пятьдесят, то все же не было сомнения в страшной истине: величайшее из его произведений погибло.
Перед тем чтобы выйти из трапезной, взглянул он в последний раз на лик Христа и – словно теперь только увидев его впервые – вдруг понял, как это произведение ему дорого.
С гибелью Тайной Вечери и Колосса порывались последние нити, которые связывали его с живыми людьми, если не с ближними, по крайней мере, с дальними, теперь одиночество его становилось еще безнадежнее.
Глиняная пыль Колосса развеется ветром; на стене, где был лик Господень, тусклую чешую облупившихся красок покроет плесень, и все, чем он жил, исчезнет как тень.
Он вернулся домой, вошел в подземелье и, проходя через комнату, где лежал Астро, остановился на минуту. Бельтраффио делал больному примочки из холодной воды.
– Опять жар? – спросил учитель.
– Да, бредит.
Леонардо наклонился, чтобы осмотреть перевязку, и прислушался к быстрому бессвязному лепету.
– Выше, выше! Прямо к солнцу. Не загорелись бы крылья. Маленький? Откуда? Как твое имя? Механика? Никогда я не слыхивал, чтобы черта звали Механикой. Чего зубы скалишь?.. Ну же, брось. Пошутил и довольно. Тащит, тащит... Не могу, погоди, – дай вздохнуть... Ох, смерть моя!..
Крик ужаса вырвался из груди его. Ему казалось, что он падает в бездну.
Потом опять забормотал поспешно:
– Нет, нет, не смейтесь над ним! Моя вина. Он говорил, что крылья не готовы. Кончено... Осрамил, осрамил я учителя!.. Слышите? Что это? Знаю, о нем же, о маленьком, о самом тяжелом из дьяволов – о Механике!.. «И повел Его дьявол во Иерусалим, – продолжал больной нараспев, как читают в церкви, – и поставил на крыле храма и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею...» А вот и забыл, что ответил Он бесу Механики? Не помнишь, Джованни?