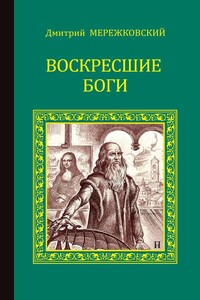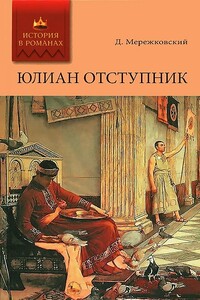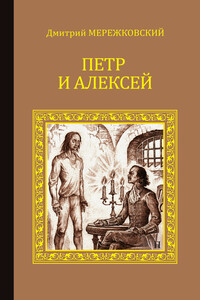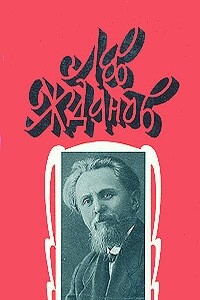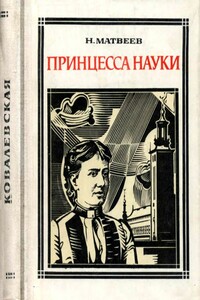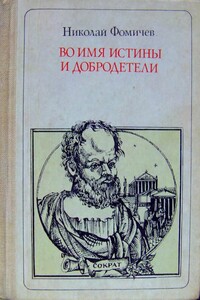В это время ходили слухи, будто бы Моро, пораженный известием о заключении против него тройственного союза Венеции, папы и короля, намеревался, при первом появлении французского войска в Ломбардии, бежать в Германию к императору. Желая упрочить за собой верность подданных во время своего отсутствия, герцог облегчал налоги и подати, расплачивался с должниками, осыпал приближенных подарками.
Немного времени спустя удостоился Леонардо нового знака герцогской милости:
«Лудовик Марна Сфортиа, герцог Медиолана, Леонардуса Квинтия флорентинца, художника знаменитейшего, шестнадцатью пертик земли с виноградником, приобретенным у монастыря Св. Виктора, именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалует», – сказано было в дарственной записи.
Художник пошел благодарить герцога. Свидание назначено было вечером. Но ждать пришлось до поздней ночи, так как Моро завален был делами. Весь день провел он в скучных разговорах с казначеями и секретарями, в проверке счетов за военные припасы, ядра, пушки, порох, в распутывании старых, в изобретении новых узлов той бесконечной сети обманов и предательств, которые нравились ему, когда он был в ней хозяином, как паук в паутине, и в которой теперь он чувствовал себя как пойманная муха.
Окончив дела, пошел в галерею Браманте, над одним из рвов Миланского замка.
Ночь была тихая. Порой лишь слышались звуки трубы, протяжный оклик часовых, железный скрежет ржавой цепи подъемного моста.
Паж Ричардетто принес два факела, вставил их в чугунные подсвечники, вбитые в стену, и подал герцогу золотое блюдце с мелко нарезанным хлебом. Из-за угла, во рву, по черному зеркалу вод, привлекаемые светом факелов, выплыли белые лебеди. Облокотившись на перила, он бросал кусочки хлеба в воду и любовался, как они ловили их, беззвучно рассекая грудью водное стекло.
Маркиза Изабелла д’Эсте, сестра покойной Беатриче, прислала в подарок этих лебедей из Мантуи, с тихих плоскобережных заводей Минчо, обильных камышами и плакучими ивами, – давнишнего приюта лебединых стай.
Моро всегда любил их: но в последнее время еще больше пристрастился к ним и каждый вечер кормил их из собственных рук, что было для него единственным отдыхом от мучительных дум о делах, о войне, о политике, о своих и чужих предательствах. Лебеди напоминали ему детство, когда он так же кормил их, бывало, на сонных, поросших зеленой ряской прудах Виджевано.
Но здесь, во рву Миланского замка, меж грозными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек – тихие, чистые, белые, в голубовато-серебряном лунном тумане – казались они еще прекраснее. Гладь воды, отразившая небо, под ними была почти невидимой, и, качаясь, скользили они, как видения, со всех сторон окруженные звездами, полные тайны, между двумя небесами – небом вверху и небом внизу, – одинаково чуждые и близкие обоим.
За спиною герцога маленькая дверца скрипнула, и высунулась голова камерьере Пустерло. Почтительно согнувшись, подошел он к Моро и подал бумагу.
– Что это? – спросил герцог.
– От главного казначея, мессера Боргонцо Ботто, счет за военные припасы, порох и ядра. Очень извиняются, что принуждены беспокоить. Но обоз в Мортару выезжает на рассвете...
Моро схватил бумагу, скомкал и швырнул ее прочь:
– Сколько раз говорил я тебе, чтобы ни с какими делами не лезть ко мне после ужина! О Господи, кажется, скоро и ночью в постели не дадут покоя!..
Камерьере, не разгибая спины, пятясь к двери задом, произнес шепотом так, чтобы герцог мог не расслышать, если не захочет:
– Мессер Леонардо.
– Ах да, Леонардо. Зачем ты давно не напомнил? Проси.
И, снова обернувшись к лебедям, подумал:
«Леонардо не помешает».
На желтом, обрюзгшем лице Моро с тонкими, хитрыми и хищными губами выступила добрая улыбка.
Когда в галерею вошел художник, герцог, продолжая кидать кусочки хлеба, перевел на него ту самую улыбку, с которой смотрел на лебедей.
Леонардо хотел преклонить колено, но герцог удержал его и поцеловал в голову.
– Здравствуй. Давно мы с тобой не видались. Как поживаешь, друг?
– Я должен благодарить вашу светлость...