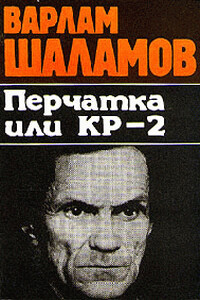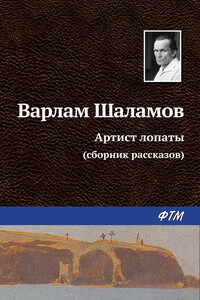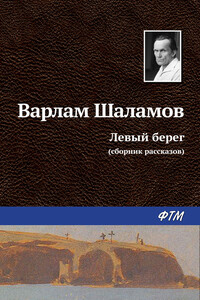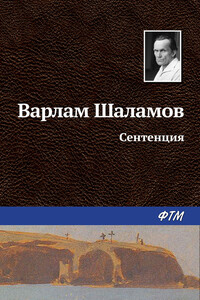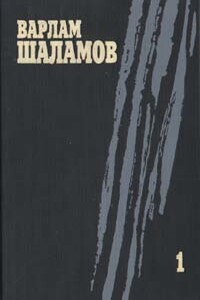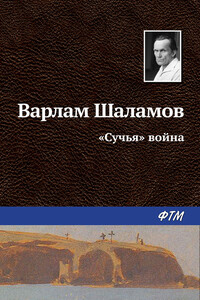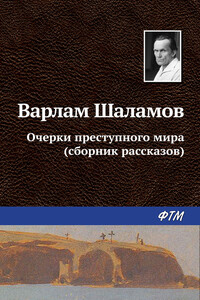Но случилось так, что и лагерный ад кончился, и Шелгунов освободился, приехал в Москву.
Мать сказала, что о Марине ничего не знает. Отец умер. Шелгунов разыскал подругу Марины — сослуживицу по театру и вошел в квартиру, где она жила.
Подруга закричала.
— Что случилось? — сказал Шелгунов.
— Ты не умер, Шура?..
— Как умер? Когда я здесь стою!
— Вечно жить будете, — вывернулся из соседней комнаты человек. — Такая примета.
— Вечно жить — это, пожалуй, не нужно, — тихо выговорил Шелгунов. — Но в чем дело? Где Марина?
— Марина умерла. После того как тебя расстреляли, она бросилась под поезд. Только не там, где Анна Каренина, а в Расторгуеве. Положила голову под колеса. Голову ровно, чисто отрезало. Ты ведь признался во всем, а Марина не хотела слушать, верила в тебя.
— Признался?
— Да ты сам написал. А о том, что тебя расстреляли, написал твой товарищ. Да вот ее сундучок.
В сундучке были все пятьдесят писем, которые Шелгунов написал Марине по своим каналам из Владивостока. Каналы работали отлично, но не для фраеров.
Шелгунов сжег свои письма, убившие Марину. Но где же письма Марины, где фотография Марины, посланная во Владивосток? Шелгунов представил Короля, читающего письма любви. Представил, как это фото служит Королю «для сеанса». И Шелгунов заплакал. Потом он плакал каждый день, всю жизнь.
Шелгунов бросился к матери, чтоб найти хоть что-нибудь, хоть строчку, написанную рукой Марины. Пусть не ему. Такие письма нашлись, два истертых письма, и Шелгунов выучил эти письма наизусть.
Генеральская дочь, артистка, пишет письма блатарю. В блатном языке есть слово «хлестаться» — это значит хвалиться, и пришло это слово в блатную феню из большой литературы. Хлестаться — значит быть Хлестаковым, Королю было чем похлестаться: этот фраер — романист. Умора. Милый Шура. Вот как надо писать письма, ты, сука позорная, двух слов связать не могла… Король читал отрывки из своего собственного романа Зое Талитовой — проститутке.
«У меня нет образования». — «Нет образования. Учитесь, твари, как жить».
Все это легко видел Шелгунов, стоя в темном московском подъезде. Сцена Сирано, Кристиана и Роксаны, разыгранная в девятом кругу ада, почти что на льду Дальнего Севера. Шелгунов поверил блатарям, и они заставили его убить свою жену собственными руками.
Два письма истлели, но чернила не выгорели, бумага не превратилась в прах.
Каждый день Шелгунов читал эти письма. Как их хранить вечно? Каким клеем замазывать щели, трещины в этих темных листочках почтовой бумаги, белой когда-то. Только не жидким стеклом. Жидкое стекло сожжет, уничтожит.
Но все же — письма можно склеить так, что они будут жить вечно. Любой архивист знает этот способ, особенно архивист литературного музея. Надо заставить письма говорить — вот и все.
Милое женское лицо укрепилось на стекле рядом с русской иконой двенадцатого века, чуть повыше иконы — Богородицы-троеручицы. Женское лицо — фотография Марины здесь была вполне уместной — превосходило икону… Чем Марина не богородица, чем не святая? Чем? Почему столько женщин — святые, равноапостольные, великомученицы, а Марина — только актриса, актриса, положившая голову под поезд? Или православная религия не принимает в ангельский чин самоубийц? Фотография пряталась среди икон и сама была иконой.
Иногда ночами Шелгунов просыпался и, не зажигая света, ощупывал, искал на столе фотографию Марины. Отмороженные в лагере пальцы не могли отличить иконы от фотографии, дерева от картона.
А может быть, Шелгунов был просто пьян. Пил Шелгунов каждый день. Конечно, водка — вред, алкоголь — яд, а антабус — благо. Но что делать, если на столе икона Марины.
— А ты помнишь этого фраера, этого романиста, писателя, Генка? А? Или уже забыл давно? — спрашивал Король, когда пришло время отхода ко сну и все обряды были выполнены.
— Отчего же забыл? Помню. Это был еще тот лох, тот осел! — И Генка помахал растопыренными пальцами руки над своим правым ухом.
1967