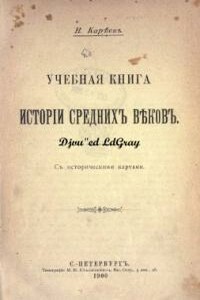Отставка Тюрго
Тюрго предостерегал далее короля по поводу смелого поведения парламентов, придворных интриг и слабости министерства, разделенного внутри, и жаловался на свое положение, одинокого и изолированного. Указывая на необходимость правительству быть солидарным и сильным, Тюрго писал еще: «никогда не забывайте, государь, что слабость привела Карла I на эшафот (а mis la tête de Charles I sur un billot), что она же делала из Людовика XIII и теперь делает из португальского короля коронованных невольников, и опять‑таки она же была причиной всех бедствий предыдущего царствовании. Вас считают слабым, государь, и бывают случаи, когда я боюсь, нет ли на самом деле в вашем характере этого недостатка, хотя я и видел истинное мужество (courage) с вашей стороны при других и более щекотливых обстоятельствах... Правду говоря, я вас, государь, не понимаю. Пусть вам наговорили, что у меня горячая и химерическая голова, но мне кажется, что все мною вам сообщаемое не похоже на предложения сумасшедшего». Тюрго ставил прямо вопрос о выборе между ним и Морепа и просил ответа, но Людовик XVI не отвечал и на это письмо, как и на два предыдущие. Король предпочел Морепа; Тюрго, казалось ему, хотел подчинить себе его волю, и он считал себя оскорбленным его письмами. Отставка не замедлила придти, а с нею не только прекратились дальнейшие реформы, но были отменены и те, которые Тюрго успел уже провести. План о «муниципалитетах» тоже не понравился Людовику XVI; на полях мемуара он прямо высказался против стремлений новатора, желающего «Франции более, нежели английской» (une France plus qu'anglaise). «Система г. Тюрго, писал он еще, только прекрасный сон, – утопия благонамеренного человека, но низвергающая установленные порядки. Идеи г. Тюрго опасны, и их новизна требует отпора».
После отставки своей Тюрго прожил еще пять лет среди научных и литературных занятий. Некоторые современники винили самого его, что он резкими чертами своего характера оттолкнул от себя людей, с которыми должен был ладить. Идеи Тюрго восторжествовали через восемь лет после его смерти. Как мы видели, историки ставили вопрос, не сделали бы реформы Тюрго излишнею революцию 1789 г., если бы ему удалось осуществить свои планы. Об этом можно говорить надвое: да, в том случае, если бы при поддержке Людовика XVI реформа могла совершиться мирно, и нет, если бы, наоборот, деятельность Тюрго сама вызвала революцию. В самом деле, если уже то немногое, что сделал Тюрго, подняло такую бурю, то дальнейшие его преобразования вызвали бы еще более страстную оппозицию парламентов; тогда правительству пришлось бы с ними вступить в борьбу, пришлось бы прибегнуть к произвольным мерам, как это было сделано при Людовике XV и как потом, уже после смерти Тюрго, вынужден был поступить сам Людовик XVI; но за парламент вступились бы и общественное мнение, и народная масса, как это и случилось позднее, а соединение консервативной оппозиции с либеральной и было началом крушения старого порядка. С другой стороны, кроме реформ, которые желал осуществить Тюрго, французы стремились еще и к политической свободе, и «la grande municipalité» Тюрго, не понравившаяся Людовику XVI, не удовлетворила бы и французской нации, в образованных кругах которой были популярны идеи Монтескье, Руссо и Мабли.
Попытка Тюрго была в сущности проявлением просвещенного абсолютизма среди особых обстоятельств, представлявшихся тогдашнею французскою жизнью. Многое из того, что задумал Тюрго, было осуществлено лишь революцией, а именно, введение самоуправления, освобождение крепостных, уничтожение феодальных прав, провозглашение религиозной свободы, свободы труда, равенства всех перед налогами и пр., но такова была и программа Вольтера, ждавшего осуществления всего этого от королевской власти. В 1776 г. французская монархия отказалась от выполнения программы Тюрго и бросилась в объятия клерикально‑аристократической реакции. Между тем обстоятельства вынуждали правительство идти по иной дороге. После реакции, последовавшей за падением Тюрго, оно дважды выступало на путь реформ: в первый раз при Неккере, за отставкой которого наступила новая реакция (1781), во второй раз при Калонне (1783 – 1787) и Ломени де Бриенне (1788), когда произошло полное объединение консервативной и либеральной оппозиций. В сущности и