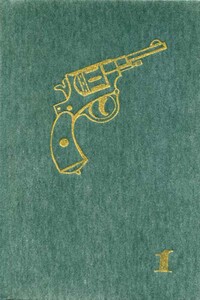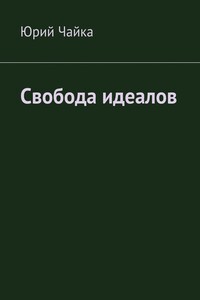Лагунцов взглянул на часы — до установленного с Завьяловым срока оставалось всего полминуты. За это время не успеешь и пуговицы застегнуть. Но за эти же полминуты, минуту, в конце концов полчаса, он должен помочь Олейникову переломить себя. Какие бы картины, навеянные воспоминаниями памятной ночи, ни проносились сейчас перед глазами солдата — он сам, с помощью капитана, конечно, должен их оборвать, разрушить, как разрушают кошмарный сон.
— Помнишь, Петр, — тихо начал капитан, — мы как-то говорили с тобой о Сергее Лазо? Тогда ты сказал, что выучился читать по книге об этом замечательном человеке, легендарном герое… Я тоже многому у него научился. Недавно вот прочел у него такие слова: «Не каждому дано право ходить по последнему метру родной земли…» Вот он, последний метр. Позади, у нас за спиной, — твой родной Магнитогорск, Кубань, где вырос Завьялов, Сатка, где жил Гена Кислов, Барнаул, в котором осталась одна мама Дремова. Все это — за нами. Все это — надежно защищено, пока у нас с тобой стучит сердце, есть крепкие руки, пока мы твердо стоим на ногах.
Лагунцов не повышал голоса, но чувствовал, что дрожь от собственных слов, которых он ни разу в жизни еще не произносил, колотит его ознобом. Олейников не поднимал головы.
В это время от розетки, откуда в памятный рассвет Олейников сообщил на заставу о перестрелке, перекрывая голос Лагунцова, разрубая тишину на границе, раздался требовательный сигнал вызова.
Олейников поднял голову. Беспомощно оглянулся на капитана, и Лагунцов — нет, не увидел, а почувствовал в глазах солдата такую боль и страдание, каких никогда прежде не знал.
Вызов шел и шел, его настойчивый резкий звук, похожий на кряканье утки, обручем сжимал голову, ненадолго отпускал и вновь сжимал.
Олейников был в смятении: перейти рубеж, усыпанный узкими листиками ивы, где все произошло тем памятным рассветом у него на глазах, он не мог. Но и не броситься на вызов, идущий с заставы, — тоже. Он топтался на месте и ждал, что капитан крикнет на него, толкнет в спину, наконец, побежит к розетке сам.
Лагунцов оставался на месте. Казалось, не разжимая губ, властно и жестко договорил:
— Помни, по последним метрам родной земли дано ходить не каждому. Тебе — дано. Иди!
И Олейников нерешительно сделал шаг, другой, третий. От розетки по-прежнему шел хриплый, густой сигнал вызова с заставы. Он притягивал к себе, властно звал, и невозможно было ему не подчиниться.