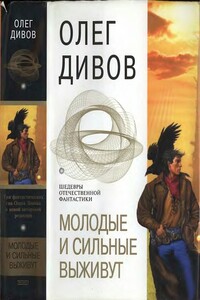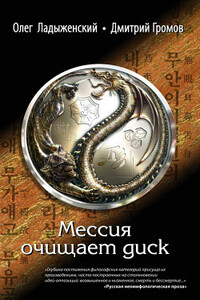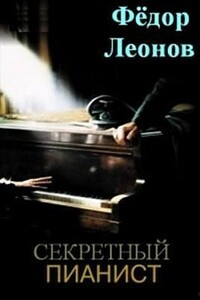Тем дело и кончилось.
Шло время, ложились Топоры в землю родного погоста, что неподалеку от их мельницы был, и остался мельник Стах старшим. Все как у людей: жена, трое девок-помощниц, хлопец тринадцати лет подрастает, наследник, значит, опять же хозяйство!.. вдобавок то масла принесут, то меду, то еще чего, а Стах Топор уйдет в клеть, посидит там, потом вернется — кивать или отмалчиваться…
Ну, да об этом уже говорено!
Охотился как-то в местных лесах князь Лентовский, старший брат нынешнего старого князя. Давно это случилось, три с лишним десятка лет минуло, в те поры князюшка лихой был, ядреный, слова поперек не скажи… Подняли егеря медведя, зверь на князя, князь на зверя, всадил в мохнатую грудь рогатину, налег — а древко возьми да и сломайся! Как хворостиночка. Подмял матерый мишка Лентовского, и быть уже беде, так тут мельникова жена неподалеку грибы собирала. Видит: живая душа без покаяния погибает; схватила горсть земли, подолом крест-накрест обмахнула, рыкнула по-медвежьи и зверю в глаза кинула. Скатился косолапый с князя и в лес! Ровно черти за ним гнались. Встал князь с земли, утерся — а Стахова женка отроду смешливая была, не удержалась и прыснула, на мятую княжескую рожу глядя! Стерпел Лентовский — егеря аж бровями повели — и говорит:
— Во сколько жизнь мою ценишь, хлопка?[11] Говори, не стесняйся — мы, Лентовские, караем страшно, но и награждаем щедро!
— Пусть хлопы жизнь человеческую в грошах оценивают, — отвечает жена мельника Стаха. — А мне, вольной, и того достаточно, что все живы: и я, и ты, и хозяин лесной, под которым ты, ровно баба под мужиком, стонал да бока пролеживал…
Что взять с глупой… язык помелом!
Во второй раз смолчал князь, лишь усы встопорщил и спросил:
— Так может, ляжешь под меня, вольная? Я под медведя, ты под князя, и все живы: и князь, и ты, и княжеский байстрюк в твоем чреве! Что скажешь?
И за грудь мельникову жену ухватил пятерней.
Ох, и звонкая же оплеуха вышла! Лес луной пошел, егеря за головы схватились, а Лентовский смеяться стал.
Долго смеялся, по-княжески, а потом отдал жену мельника егерям на забаву. Сам смотрел, как ловчие тешились, трубку курил, затем постоял над растерзанной женщиной и приказал егерям бабе руки рубить. Правую, что князя била, по локоть; левую, не такую виноватую — только пальцы. Не посмели егеря ослушаться, сделали бабу безрукой, прижгли факелом раны, а Лентовский самолично ей на шею кошель с большими деньжищами привесил и велел с почетом домой проводить.
Проводили.
С почетом.
Неделю после того мельница мертвой стояла, подмастерья да младшие Топоры в корчме Ицка Габершляга сиднем сидели, горькую пили — домой идти боялись. Выл мельник Стах над женой диким воем, с того света вытаскивал — вытащил. Только что с того?! Деньгами проклятыми расколотой жизни не склеить, рук новых не купить, а до князя Топору ни топором не дотянуться, ни словом достать. Не боится Лентовский ни Бога, ни черта — на таких порчу наслать никак невозможно, а сухим деревом в лесу придавить, так для этого рядом быть надо, чтоб видеть-слышать… куда мельнику за князем по лесам гоняться?!
На тринадцатую ночь, как серпик молодого месяца верхушки сосен жать принялся, подкатил к мельнице тарантас. Спрыгнул с облучка худой возница в богатом камзоле, какие не носит окрестная шляхта, и в зеленом берете с петушиным пером. Не пускал раньше мельник Стах гостей на ночь глядя, да еще незнакомых — а этого пустил. До утра толковали. А за час перед рассветом вышел Петушиное Перо с мельницы, к тарантасу своему направился.
— Не сошлись мы с тобой, — сказал вслед незваному гостю мельник Стах.
— Сам знаешь: я не купленный-проданный, я потомственный Топор, и даже ради мести… нет, не сошлись.
Ушел Стах обратно, дверью хлопнул, а Петушиное Перо стоит у тарантаса, не уезжает, ровно ждет чего.
И дождался.
Сын мельника, тринадцатилетний Топоришко, из-за угла вьюном вывернулся и рукой гостю машет: сюда иди, мол! Стали оба у подклети, слово за слово… молодое дело горячее, вот уже и ножик по руке полоснул, и перо гусиное в крови искупалось, чертит по желтому пергаменту, торопится!..