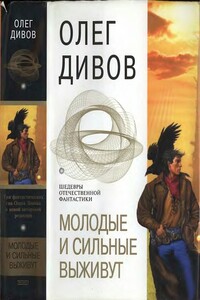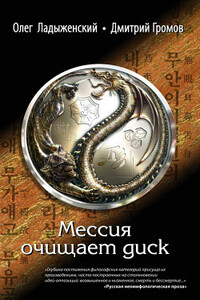— Ведро «Богородицы»! пол-ведра! вздорожала? почему?!
Узнав об этом, тетушка Деметра поморщилась слегка — и караима с его водой больше никто не видел.
Нет, в церкви легче не станет. Это старая женщина знала наверняка. И отговаривалась от пустых снов с чайками знакомым отговором: концом срока ученичества крестницы Елены. В этот период у любой крестной матери, будь она хоть Тузом, хоть захудалой Десяткой, сила подтачивается, выветривается, и приходится действовать осторожно, боясь спугнуть, сорвать... сгореть.
Особенно в возрасте тетушки Деметры.
Новый хребет с оскаленной головой и хвостом-веером шлепнулся в корзинку. Старая женщина опустила взгляд ниже. Гора хрупких костей; оскал ртов; выпученные глаза спрашивают: «За что? за что — в маринад? с корицей?! с сахаром?!» Страшный Суд во плоти. Сразу вспомнилось: гонцы, разосланные на позапрошлой неделе, доложили — нашли. Нашли, кого искали, и предупредили, и намекнули: «За новым столом под туза сперва ходят...» Завтра с утра жди гостей.
«Елена, встретишь?» — спросила беззвучно.
«Встречу,» — пришел ответ.
Вздохнула тетушка Деметра. Уставилась на нож в липкой слизи, будто впервые его видела. Вытерла зачем-то руки о передник.
Еще раз вздохнула.
А вдали — в небе? во сне? в безумии?! — все кричали невидимые чайки.
VI. АЗА-АКУЛИНА или МЕРТВЕЦЫ В ПРИКУПЕ
Я буду говорить тебе, слушай меня;
я расскажу тебе, что видел...
Книга Иова
...Спать страсть как хочется! Ноги сами по себе идут, будто кто другой их за меня переставляет; слева гора назад ползет, справа — обрыв вниз валится. Поначалу страх брал — ну как сорвешься, с эдакой-то высотищи! А теперь и не страшно уже. Все равно. До того сон долит.
Сорвешься, прямо в полете заснешь.
Из сна — в смерть.
— ...умаялась девчоночка. Загонял ты ее, Друц...
— Дойдет. Княгиня, а ты себя такой помнишь? То-то смеху, небось?
— Отсмеялся мой смех...
...Вроде бы и утро, и туман, и зябко — а скулы зевота сводит. Совсем как тогда, в Харькове, когда Друц в кузню на Москалевке устроился, а меня к тетке-молочнице определил, в разносчицы. Тетку еще до света черти подымали, она меня в тычки — гнала сперва коров доить, а после к заказчикам с бидонами. Я все понять не могла: в городе я, или еще в деревне? У тетки хлев во дворе, выгон рядом; и тут же улица городская начинается. Пройдешь чуток, за угол свернешь — дома каменные пошли, в два этажа, а дальше и совсем господские, дворцы дворцами!
Обидно было после житья барского, по гостиницам с прислугой, у тетки-молочницы мало что не в хлеву ночевать! Прямо как в Кус-Кренделе. Раньше б я слова поперек не сказала, мне-то что, я привычная — а теперь вот заело! После хоромов обратно носом в грязищу. Неужто Друц ничего получше найти не смог? Ведь и деньги у него есть, и сила мажья, и...
Я ему так и брякнула. А он: «Лежи, мол, на дне и не бултыхайся. Петля по нас плачет, Акулина. Поняла?»
Да уж поняла; не бултыхаюсь. Молчу. Только что ж раньше-то все по гостиницам, а теперь... Ладно. Не навсегда ведь. А то так я и дома могла. Вставать до петухов, при лучине в хлев тащиться, потом — на улицу, в серость постылую.
Тоска.
Хорошо хоть, недолго тетке меня мытарить довелось. Однажды вечером заявился дядька Друц. Как раз вскорости после того, как Рашелька с Федюньшей из города уехали. Мы-то и не видались с ними почти: только перед отъездом Княгиня забежала, попрощалась наскоро, Друцу в ухо пару слов дунула — и поминай, как звали.
Так вот, явился Друц, а я примечаю: скособоченный он. Опять, что ли, спину скрутило? Да и мне в последние дни муторно было; то слабость, из носу кровь идет, то головы кружение, то снится дрянь всякая...
«Все, — говорит, — собирай манатки. Уходим. В таборе жить будем. Пора тебе свободой ромской надышаться!»
А я ему: «Там хоть выспаться дадут, в таборе твоем?!»
Он смеется: «Ромалэ не спят! Днем пашут, ночью пляшут!»
Вот так мы в таборе и оказались.
И на следующий же день — в дорогу. В Крым.
— ...давайте я ее понесу. Мне она — перышко.
— Перышко, друг-Феденька, да не по здешнему серпантину. Скользнет нога, кто вас двоих удержит?
— Ин ладно...
Дорогой замечать стала: в зеркальце гляжусь — вроде я, и вроде не я! Лицо мое, только гладкое, рябушки сошли, одни конопушки остались, и тех чуть. Чудеса! Ну, не барыня-красавица — но симпатишная такая девка из зеркальца смотрит! Я и радуюсь, и дивлюсь. Парни ромские, кучерявые, со мной заговаривать стали, подмигивать со значением. Может, это дядя Друц на меня чары наложил?