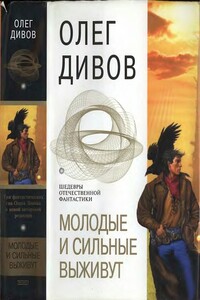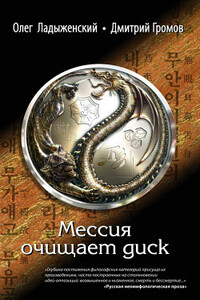ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
А в блеклых, водянисто-мокрых глазках сторожа из мордвинского морга — вглядывайся, не вглядывайся! — мелко плавает:
...клеенка.
Рядом — угол стены; кафелем облицован. Откуда-то сбоку большой палец ноги выпятился: сам палец синий, на нем бирка, тоже клеенчатая, фиолетовыми чернилами испачкана. На клеенке стакан примостился; налит всклень, с краями. Немного водки пролилось, и в резко пахнущей лужице мокнет ломоть ржаного хлебушка: пористый, ноздреватый, на горбушке пять зернышек тмина.
Это, значит, хорошо.
Сейчас хорошо, а будет еще лучше.
* * *
— Встать!
Вахмистр пинком распахивает дверь. Окрик его мгновенно подымает на ноги словоохотливого жандарма, да еще тебя — жизнь барачная приучила. Откуда и силы взялись? Сторож с Федюньшей припоздали малость: замешкались. Впрочем, вахмистру на это плевать.
Подойдя к тебе, он зачем-то щелкает каблуками и коротко, по-офицерски кланяется.
— Госпожа Альтшуллер!
Обращение, от которого довелось отвыкнуть — все больше по-иному величали — удивило.
Но не слишком.
Удивляться, радоваться, сокрушаться — что это? как это?!
— Госпожа Альтшуллер! Сейчас вам предъявят для опознания тело женщины, погибшей позавчера ночью под колесами поезда. Прошу учесть: ваши показания имеют существенную важность для следствия! Об ответственности предупреждать не буду: сами знаете. Вы готовы?
Ты кивнула.
Кажется.
Вахмистра это вполне удовлетворило:
— Митрич, валяй!
Сторож мышью шмыгнул куда-то вглубь. Скрип петель, невнятные проклятья; тяжко просела под невидимым отсюда телом каталка. Мертвые — они тяжелые. Это правда. Живые куда легче, живым все чего-то хочется, все вверх тянутся, сами себя за уши... глупцы.
Взвизгнули колеса по кафелю.
Вернувшийся сторож ловко перетягивает укрытую клеенкой покойницу на мраморный стол. Глядит на вахмистра: снимать ли?
— Итак?
Клеенка с шуршанием соскальзывает на пол.
Ты смотришь.
Ты в недоумении.
Совершенно незнакомая женщина лежит перед тобой, во всей своей ледяной, бесстыдной наготе. Резко проступают наспех сделанные швы — в тех местах, где кривая игла сшивала отрезанные части. Лицо женщины сохранилось в неприкосновенности: обычное лицо, миловидное... было. Этого лица испугался атаман кодлы, если верить болтуну-жандарму. Левый глаз слегка сощурился, подмигивает тебе: что, Княгиня, не меня ожидала? Ну ладно, и на старуху бывает проруха...
«Тело женщины, — всплывает из глубин фраза вахмистра, — погибшей позавчера ночью... под колесами...»
И все-таки удивление приходит. Как — позавчера ночью? почему? быть не может?! Это, выходит, ночью подобрали, утром сшили, а к часу дня урядник Кондратыч уже несся по Кус-Кренделю, мучая шпорами жеребца?! Как это он поспел? когда его предупредить успели?! Когда послали за тобой для опознания?!
Неужели заранее? ДО смерти?!
Поезд еще только раскидывал по полотну останки несчастной, а по урядникову душу уже несся особый курьер?!
Как это? возможно ли?..
Удивление вспыхивает римской свечой на фейерверке — и гаснет, пыля редкими искрами.
Какая разница?
— Вам знакома эта женщина?
— Нет.
Она тебе не знакома. Лишь бренчит на самой окраине мелочишка былого мастерства: перед тобой фартовая Пятерка. Еще не вышедшая в Закон; чья-то крестница. И масть твоя, бубновая. Это точно; это наверняка. Но господину вахмистру сообщать об этом не стоит. Мало ли Пятерок Бубен оканчивают земной путь под колесами? Наверное, не так уж мало.
И еще что-то грезится тебе: что-то дикое, о чем думать не хочется.
Ты и не думаешь.
— Итак, вы уверждаете, что впервые видите предъявленную вам для опознания?..
— Впервые.
— Хорошо-с, госпожа Альтшуллер! Очень хорошо-с! Извольте обождать, я скоро...
И, снова дернув шеей в поклоне, вахмистр исчезает.
— Можно и мне... чаю... — спрашиваешь ты.
— Можно, — милостиво соглашается усатый жандарм, а сторож выволакивает из-под стола с покойницей еще две кружки: тебе и Федюньше.
Парень смотрит на все это круглыми от испуга глазами.
— Выйдешь? — спрашиваешь ты у него. — На воздух, а?
Он только головой мотает.
Здесь, мол, останусь.
Здесь.
Тебе все равно. Пусть сидит. Чай горячий, сладкий; время горячее, сладкое, тянется медовой патокой. Глядишь, все выйдет-вытечет, без остатка. Кажется, ты начинаешь дремать. Там, в дреме, тихо, там хорошо; там рояль медленно шевелит клавишами — си, ре диез... Аккорд, другой, затем ровной нитью кантилены вступают скрипки, и гобой... кружатся пары, сшитые намертво суровой нитью «скубента»-анатома, кружатся, смеются синими ртами... свечи горят...