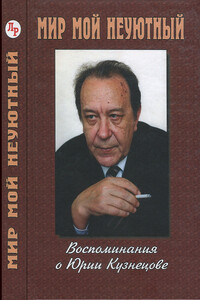Что и говорить — не слишком-то оживленное место! Но ссыльный, оказавшийся в Пинеге, мог благодарить бога, если его не посылали дальше, в глубь уезда: здесь все же была пристань для пароходов, каждую неделю прибывала почта. Но именно о возможности отправиться дальше сообщил Ворошилову уездный исправник. Он еще раз напомнил ему «Положение о полицейском надзоре», регулировавшее жизнь ссыльного.
Ссыльный находился в полном распоряжении полиции. Параграф 6-й гласил: «От лица, отданного под надзор полиции, отбираются документы о его звании, если таковые у него имеются, и вид на жительство, взамен которых ему выдается свидетельство на проживание в назначенной ему местности». Следующий параграф обязывал поднадзорного «жить в определенном ему для того месте» и воспрещал «отлучаться из оного без разрешения надлежащей власти».
Параграф 17-й: «…поднадзорный как в месте своего жительства, так и временного пребывания обязан являться в полицию по первому ее требованию».
Параграф 18-й: «…местная полицейская власть имеет право входа в квартиру поднадзорного во всякое время».
Параграф 19-й: «Полиции предоставляется право производить у лиц поднадзорных обыски…»
И так далее, и так далее…
В такой глуши, как Пинега, полиция не считала нужным, пока будет определено дальнейшее (в полном смысле этого слова) место жительства Ворошилова, держать его под стражей. Непредусмотрительность, по крайней мере в отношении таких людей, как Ворошилов, непростительная. Он побывал у проживающих в городе ссыльных, расспросил, и его решение укрепилось — тут он не намерен задерживаться, у него есть дела и поважнее.
Покуда жандармы раздумывали, куда бы подальше заслать Ворошилова, он готовился к обратному пути. Для этого нужны деньги, и в Луганск, к А. Л. Гущиной, отправляется письмо с просьбой одолжить их. Но посланные «матушкой» 25 рублей возвращаются обратно — адресата уже нет на месте.
Большевик Павел Лагутин через других ссыльных сумел договориться с местным жителем Иваном Кабеевым, который зарабатывал извозом. Кабеев согласился довезти Ворошилова до Архангельска. Нашлась и попутчица — одесская студентка Мария Найда тоже не хотела зимовать в Пинеге. 21 декабря 1907 года Ворошилов, употребляя выражение жандармского документа, «из-под надзора полиции скрылся».
Добраться до Архангельска удалось раньше, чем властям стало известно о побеге. Некоторое время пришлось выжидать у товарищей в доме Розенталя на Финляндской улице, в непосредственной близости от губернской тюрьмы. Товарищи достали Ворошилову подложный паспорт, купили железнодорожный билет и загримировали под священника. Вот когда пригодилось участие в любительских спектаклях! Загримированный беглец благополучно сел в поезд и через несколько дней уже был в Петербурге, на одной из партийных явок. Но оставаться здесь ему было нельзя.
Поздней ночью в середине января 1908 года в окно квартиры П. Пузанова постучали. Хозяин отворил — в дверях стоял Ворошилов. Объятия, торопливые расспросы, кто сохранился, кто арестован. Впрочем, все ясно и без вопросов — в Луганске Ворошилову работать невозможно, его все знают. Но он не хочет прятаться, он хочет активной работы, и он уже имеет указание ЦК: путь его лежит на другой конец Российской империи — в город нефтяников Баку.
Велика Россия и разнообразна: Архангельск, когда Ворошилов покидал его, был завален снегом, в Луганске трещал мороз, в пути поезд был задержан заносами, а январский Баку встретил приезжего холодным дождем. Сквозь его пелену со станции железной дороги город, раскинувшийся амфитеатром по берегу моря, казался сероватой расплывчатой массой. Дым, поднимавшийся из труб заводов на окраинах города, смешивался с дождем, и оттого город становился еще сумрачнее.
Не приходилось Ворошилову до сих пор бывать в таком городе. Прежде всего бросалась в глаза оживленность, какая-то особенная, не свойственная великорусским городам. На улицах Баку нарядно, элегантно, одетые по-европейски люди шли рядом с мусульманами, бороды которых были окрашены в красный цвет, в кафтанах, опоясанных шарфами, и мусульманками в чадрах, в широких шароварах и туфлях без задников. Смешанным был и транспорт: наряду с шикарными фаэтонами, запряженными породистыми лошадьми, по улицам тянулись тысячи осликов, навьюченных и с седоками. Крики извозчиков, разносчиков воды, шум и суета многочисленных чумазых ребятишек…
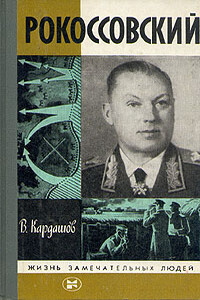
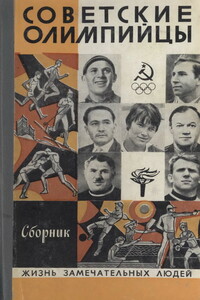

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)