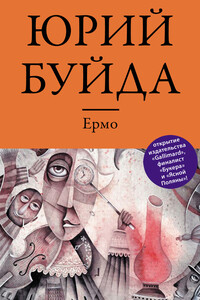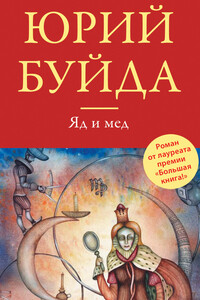Развалины, развалины — они были всюду…
Рассказывали, что город потому так разрушен, что наши войска брали его пять раз, но всякий раз бойцы добирались до спирта — у реки стоял спирт-завод, солдаты напивались, и немцы их прогоняли. Вот и пришлось стереть город с лица земли — вместе с соблазнительным заводом. Отец говорил, что это брехня.
Старожилы еще помнили те времена, когда русские люди — до осени 1948 года — жили бок о бок с немцами, и вспоминали о немках, которые готовы были отдаться солдату за кусок мыла, чтобы потом этим мылом вымыть тротуар; о рыбаках, которые умирали от голода, но сдавали всю рыбу — до последнего хвоста — на приемный пункт; о стариках, владевших искусством ухода за булыжными мостовыми; о трактористах, которым не лень было вывинчивать шипы из задних колес трактора «Ланд-бульдог», чтобы только перебраться через асфальтовое шоссе на другое поле, где те же пятьдесят два шипа приходилось вновь ставить на место; о душераздирающих историях любви русских офицеров и немецких женщин…
Особенно сильное впечатление произвела на меня история о дверной ручке. Перед депортацией хозяин дома — немец — снял с входной двери медную ручку, сказав на прощание новым хозяевам дома — русским: «Вернусь — поставлю ручку на место». В тот же день поезд увез его в Германию. Я пытался представить себе этого человека, который не взял с собой ни дорогую посуду, ни напольные часы, ни книги, а взял только ручку, медную ручку. Он берег ее как сокровище. Хранил в своем новом доме, спрятав в шкатулку. Вечерами любовался ею, вздыхал и, может быть, плакал, вспоминая о родине, о доме, где родился, где потом родились его дети и внуки. Умирая, он завещал эту медную дверную ручку старшему сыну, чтобы он вернул ее на место. Я думал о том дне, когда по возвращении из школы вдруг обнаружу на нашей двери эту ручку в форме львиной головы и обомлею на пороге, не зная, что делать, как жить дальше…
— Этого никогда не будет, — сказал отец, когда я рассказал ему эту историю. — В этой игре назад не ходят. Да и не было никакой ручки, я думаю…
Эти обрывки истории не позволяли проникнуть за стену, которая отделяла русскую нашу жизнь от той, что была здесь семьсот лет до нас. Впрочем, и не сказать, чтобы я так уж отчаянно бился в эту стену. Русские приехали сюда не для того, чтобы изучать историю Восточной Пруссии и восстанавливать памятники ее культуры, — русские приехали сюда, чтобы жить. И я ничем не отличался от этих людей. Вопросы о прошлом этой земли возникали и тотчас угасали, потому что нужно было идти с дружками на рыбалку, делать домашнее задание по математике или переживать из-за того, что в пятницу — по пятницам в бане был «женский день» — ребята пойдут вечером к бане подглядывать за голыми женщинами, а я должен лежать в больнице…
Однажды наша учительница устроила нам, мальчишкам, выволочку за то, что мы дразнили Веселую Гертруду, сумасшедшую немку.
— Старость нужно уважать, — сказала учительница. — А вы? Ведете себя как не знаю кто!
Кто-то из нас сказал, что старуха вечно бормочет что-то невразумительное: «Зайд умшлюнген, миллионен» и все такое.
— Зайд умшлюнген, миллионен, — подхватила учительница, — дисен кюсс дер ганцен вельт… Обнимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, свет, братья, над шатром планет есть отец, к сынам склоненный! Дурачки вы дурачки, когда-нибудь вы поймете, что эти стихи Шиллера — это такая высокая, такая великая, такая светлая мечта о всеобщей любви и братстве… это такая печаль… — Голос ее задрожал. — И эта несчастная женщина… в ее темном разуме сохранился этот свет любви… это ее молитва, а вы… вы тут… а ты, Буйда, вынь тут мне руки из карманов! Что за привычка! Стой как полагается!
На какое-то мгновение стена рухнула. Или, точнее, на какое-то мгновение в ней появилась дырочка, в которую я мог заглянуть, и я другими глазами увидел эту старуху, эту Веселую Гертруду, ее седые космы, ее черные от грязи босые ноги — такие же, как у моей украинской бабушки… на несколько мгновений Веселая Гертруда стала таким же человеком, как я, не немкой, не чужой, а просто — человеком со своей болью и любовью… и это поразило меня… поразило — и тотчас забылось: едва учительница скрылась за углом, мы бросились в орешник — вырезать рогатки.