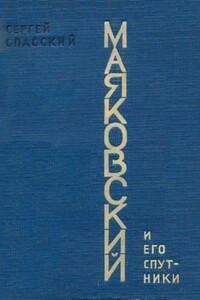Ксении Иннокентьевне за шестьдесят. Она удивительно хорошо сохранила юношескую бодрость духа, ясность и живость мысли. Приняла она меня сдержанно, даже суховато — по-сибирски, но это отнюдь не мешало нам обеим понимать друг друга с полуслова. И когда в беседе с ней я видела какую-то мечтательную, почти юношескую полуулыбку, прячущуюся в углах рта и мелких морщинках возле глаз, мне становилось удивительно легко и просто общаться с внучкой Кузнецова.
Галерея, которую мы осматривали, находилась на правой стороне Енисея и занимала нижний этаж жилого дома, что было не совсем полезно для нее. В нескольких залах были развешаны работы современных сибирских художников: Каратанова, Лекаренко, Ряузова, Мешкова, Худоногова, Руйче, Кобытева, Ряннеля, Мирошкиной, Фролова; дальше шли мастера старинной живописи и, наконец, ценное собрание корифеев русской живописи: Репин, Нестеров, Поленов, Маковский, Ге, Мясоедов, Айвазовский, Коровин, Шишкин, Левитан, Крамской, Серов, Юон, Крымов. Сурикову, как земляку, был отведен отдельный зал. Было несколько хороших копий из Третьяковской галереи с картин разных художников.
Когда мы остановились возле копии с картины Венига «Последнее утро Самозванца», где Лжедмитрий и Басманов стоят у окна в Кремлевском дворце, копии, которую делал красноярский художник Попов, я вспомнила, как Суриков, который понимал юмор и любил посмеяться, увидев эту работу еще в мастерской у Попова, вдруг расхохотался и рассказал ему, что в Москве у передвижников эта картина слыла под названием «В какой части пожар?».
Самая лучшая копия в Красноярской галерее — это «Боярыня Морозова» Сурикова. Она сделана в размер подлинника, и здесь-то начинаются все беды для картинной галереи… Нет такого большого зала, в котором можно было бы смотреть на эту картину на расстоянии. Она стоит в небольшом помещении, перерезанном двумя колоннами, и зритель должен метаться между ними, разглядывая картину по частям.
Вдобавок наверху жильцы живут обыкновенной, нормальной жизнью новоселов: у них может потечь кран, затопить всю квартиру, что и случилось. Стена под картиной набухла водой с верхнего этажа, картина стала плесневеть…
Мы долго обсуждали все это с директором галереи Александром Давидовичем Спеваковским. Ему никак не удавалось добиться более подходящего помещения. И тогда я вызвалась доложить в крайкоме об опасности, которой подвергаются полотна больших художников, ценности, народное имущество. Я стояла возле картины на фоне саней Морозовой. И тут Ксения Иннокентьевна, видимо, чисто случайно буркнула: «Не в свои сани не садись!» — что вызвало дружный смех…
На следующий день я пошла в крайком, чтобы доложить в отделе пропаганды обо всем, что происходит в художественном мире. В эти последние дни сентября весь крайком был поднят на уборку хлеба. Я сидела в приемной, где сухие снопы буро-зеленой кукурузы стояли вдоль стены до потолка, как бамбуковый лес в джунглях, и шел от них сладковатый и терпкий аромат. Я вдыхала этот аромат и смотрела, как люди, одержимые заботой о хлебе, беспокойно мрачнеющие от каждого облака, отрезающего от земли солнечные лучи, люди, умеющие отдаваться общему делу как своему собственному, личному, спешили уехать в поля. Я смотрела им вслед, и думалось мне:
«Сейчас — хлеб! Но ведь кончится же уборочная, и тогда можно будет оглядеться. И если я не сумею убедительно и полнокровно описать товарищам дела в картинной галерее, то грош мне цена! И, значит, действительно я „села не в свои сани“!»
* * *
Начальник Енисейского пароходства Иван Михайлович Назаров пригласил нас с Анастасией Михайловной прокатиться на скоростном катере — «ракете». В назначенный час мы явились в порт. Новенькая, прекрасно оборудованная «ракета» гостеприимно приняла нас на борт, а затем — в громадный уютный салон примерно на сотню пассажиров.
Пофыркав и подрожав немного, «ракета» понеслась по Енисею, оставляя за собой белопенный крутящийся шлейф. Течение прибавляло нам скорости. Усевшись у широкого, низкого окна, я смотрела на эту стремнину, веками рокочущую у красноярских берегов.