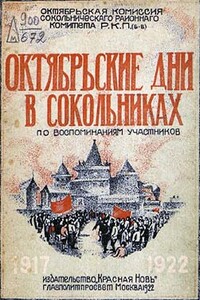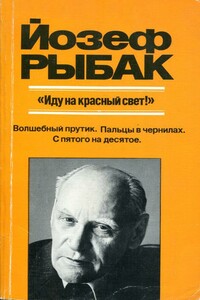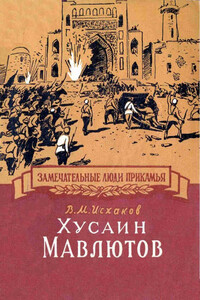Минск мы проехали поздно ночью, а рано утром, на рассвете, мы были в Бресте — на границе. И вот тут-то с нами произошла история, едва не закончившаяся печальным финалом нашего путешествия.
Незадолго до поездки Вильгельм сдал в издательство «Художественная литература» первую часть своего нового перевода Байрона, подготовленную к набору.
— Вторую часть, — сказал мне Виля, — я возьму с собой в Прованс. Как ты думаешь, будет у меня там время поработать?
— Конечно, будет, по вечерам.
И Виля захватил с собой рукопись.
В Бресте к нам в купе зашли пограничники, познакомились с нами, осмотрели наши вещи, поставили визы, выдали по удостоверению для представления при возвращении обратно и ушли. После этого, как обычно, наш вагон был отцеплен от поезда и препровожден в специальный ангар, где должны были переменить нам оси, подкатить их под наш вагон — за Брестом начиналась европейская узкая колея.
На пути к ангару Виля, перебирая содержимое своего портфеля, вдруг с ужасом обнаружил, что сдал в издательство не первую, а именно вторую часть, которую собирался править.
— Боже ж мой! Что же я наделал? Перепутал все на свете!
И тут же, едва вагон успел остановиться, он как сумасшедший, в чем был, в рубашке, без пиджака, выскочил в тамбур, спрыгнул с подножки и, не послушав окрика проводника, кинулся обратно по путям на вокзал. Как и следовало ожидать, его тут же схватил часовой:
— Вы куда, гражданин? Вы же знаете, что здесь запрещено ходить.
— Я на вокзал, товарищ часовой! Я должен успеть на почту, отослать вот эту папку с рукописью в Москву! — лопотал Виля, задыхаясь, и принялся объяснять часовому, что это перевод английского поэта Байрона, который он сделал, поскольку он литератор и переводчик, и что он немедленно должен отослать перевод в редакцию издательства.
— Какой там еще Байрон? — сердился часовой. — Английские переводы? Пойдемте к начальству таможенной службы, там и отвечать будете. Байрон еще какой-то…
И бедный мой Вильгельм под конвоем зашагал на вокзал.
Я сидела в вагоне, который автоматически уже поднялся на целый этаж вверх, и представляла себе, как бедный мой друг сейчас выкручивается в кабинете у начальника. Наконец вагон опустили на шасси, и мы выехали из ангара. Проводник наш был вне себя от беспокойства и досады:
— Ведь всем же было сказано: из вагона строго-настрого выходить запрещено. Кто хочет, может оставаться на вокзале, пока меняют оси. А теперь не знаю, что будет! И как это я его упустил? Вот беда-то. Я же за него отвечать должен. И не иначе как отправят его в Москву за нарушение, а я, чего доброго, и работу потеряю! Ах, ты! Несчастье какое!..
Когда наш вагон подошел к перрону, я увидела из окна смертельно бледного Вильгельма. Таможенник его ввел в купе, и тут он словно подкошенный рухнул на диван.
— Ну, что с тобой было? — кинулась я к нему.
— Ох, не говори! Слава богу, все обошлось, отпустили меня. Я все же убедил начальника, он позвонил в издательство, и там подтвердили, что им нужна первая часть рукописи. Я уж там и стихи читал, уверял, что Байрон классик и в его сочинениях нет ничего предосудительного, что это литература не запретная. Все это вызвало в пограничниках такое недоумение и даже любопытство, что они отнеслись ко мне довольно благосклонно и обещали послать папку по назначению. Ну конечно, посмеивались надо мной… А ведь могли и пренебречь или не поверить. Ох, и перепугался же я! Едва отдышался!
— Еще бы! Могли вообще отправить тебя в Москву вместо Прованса. И пришлось бы мне ехать одной…
Я тогда еще не представляла себе, насколько Вильгельм рассеян, простодушен и сколько в нем, при всей его солидности и внушительной внешности, детской непосредственности и доверчивости, я бы даже сказала — легкомыслия.
Он мог выкидывать номера вроде анекдотических рассказов о знаменитом профессоре Каблукове. И бок о бок с его одаренностью, образованностью и высокой культурой уживалось полное небрежение к каким-то элементарным правилам в общежитии и практическим элементам и формальностям, без которых не существует административных порядков. Все близкие друзья Левика знали это и относились к нему с особой симпатией и даже нежностью, прощая ему все его странности за удивительный философский ум, за талант, за щедрость и доброту.