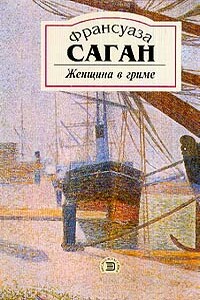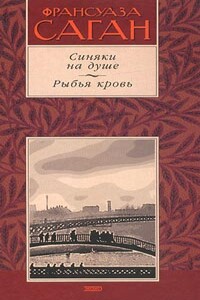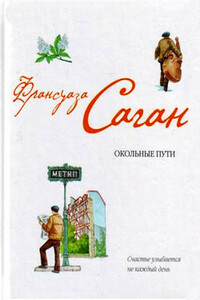– Вы могли бы вообразить, что она тоже держит плод в руке и… Впрочем, ваши сравнения меня раздражают. Вместо того чтобы воображать себя щедрым дарителем, вам не мешало бы осознать, что и у нее есть чем одарить другого, попытаться понять ее, что ли…
– Вы женаты, мой дорогой Жан?
– Да, – сказал «Жан» и как-то сразу сжался.
– Ваша жена любит и кормит вас. Вы не бросаете ее, хотя она вам и наскучила.
– Я вижу, вы хорошо осведомлены.
– Вы не бросаете ее по той причине, которую называете жалостью, не так ли?
– Это вас не касается, – сказал Бернар. – Речь идет не обо мне.
– Речь идет о любви, – сказал Алан. – И это надо отметить. Бармен!..
– Прекрати пить, – сказала Жозе.
Она произнесла это почти шепотом. Ей было не по себе. Она и вправду питалась любовью Алана, в ней она находила смысл жизни, а может, и основное занятие, хотя она и боялась признаться себе в этом. Однако она и в самом деле больше так жить не могла. Она не хотела, чтобы ее «насильно кормили», как он выразился. Алан продолжал:
– Итак, вам надоела ваша жена, мой дорогой Жан. Некогда вы любили Жозе или, точнее, полагали, что сможете ее любить, она вам уступила, и вы разыграли грустную, сентиментальную комедию, исполнили ее в унисон. Ибо ваши скрипки хорошо сыграны и настроены, разумеется, на минорный лад.
– Может быть, и так, – сказал Бернар.
Он взглянул на Жозе, и они не улыбнулись друг другу. В это мгновение она дорого бы заплатила, чтобы страстно любить его, ведь тогда она смогла бы хоть как-то возразить Алану. Бернар понял ее мысли и покраснел.
– А вы, Алан? Взгляните на себя со стороны. Вы любили женщину и отравили ей жизнь.
– Это не так мало. Вы считаете, что кто-то способен ее жизнь наполнить?
Мужчины повернулись к ней. Она медленно встала.
– Я просто в восторге от вашего спора. Раз вы про меня забыли, я удаляюсь. Продолжайте в том же духе, а я пойду спать.
Не успели они подняться, как она оказалась на улице и остановила такси. Она назвала шоферу мало знакомую ей гостиницу.
– Поздно, – прошептал шофер с видом знатока, – уже поздно ложиться спать.
– Да, – согласилась она, – слишком поздно.
И вдруг она явственно увидела себя, двадцатисемилетнюю женщину, которая совершает побег в нью-йоркском такси от любящего ее мужа, пересекает предрассветный город и многозначительно произносит: «Слишком поздно». Она подумала, что ей придется еще не раз восстанавливать в памяти случившееся, инсценировать его, смотреть на себя как бы из зрительного зала; она подумала, что в этом такси она могла бы дать волю слезам или страху, вместо того чтобы рассеянно гадать, не зовут ли приросшего к сиденью шофера, к примеру, Сильвиус Маркус.
И лишь когда она заказала авиабилет в Париж, зубную пасту и щетку – все это на вечер того же дня, – когда она легла спать, свернувшись калачиком в незнакомом гостиничном номере, куда едва проникал дневной свет, она начала дрожать от холода, усталости и одиночества. Она привыкла спать, прижавшись к лежащему рядом Алану, и в течение получаса, которые потребовались ей, чтобы заснуть, прожитая жизнь представилась ей как грандиозная катастрофа.
Дул ужасный ветер. Он ломал ветки деревьев, которые свободно парили какое-то время в воздухе, прежде чем упасть на землю и зарыться в пыль, жухлую траву или замереть в придорожной грязи. Жозе стояла на пороге дома и смотрела на лужайку, желтеющие поля и обезумевшие каштаны. Раздался громкий треск, и от дерева отделилась толстая ветвь, трепеща листьями, она совершила воздушный пируэт и упала к ногам Жозе. «Икар», – сказала Жозе и подобрала ее. Было холодно. Она вошла в дом, поднялась к себе. Комната была выложена декоративной плиткой; стол, заваленный газетами, и огромный шкаф – вот почти и вся находившаяся в ней мебель. Она положила ветку на подушку кровати и с минуту ею любовалась. Выгнутая, будто сведенная судорогой, тронутая желтизной ветка походила на подбитую чайку, на похоронный венок, она была воплощением скорби.
За две недели, проведенные в нормандской деревушке, которую терзала неистовая осень, Жозе решительно ничего не предприняла. Вернувшись в Париж, она сразу же сняла этот старый одинокий домик; агент по сдаче внаем недвижимости с трудом поверил в свою удачу. Точно так же она могла бы устроиться в Турене или Лимузене. Она никого не поставила об этом в известность. Жозе хотела прийти в себя, хотя теперь это словосочетание воспринималось ею с едкой иронией. Ведь ей некуда было идти и тем более незачем углубляться в себя. Видимо, это выражение часто встречалось в прочитанных ею романах. Здесь властвовал ветер, он приходил и уходил, когда хотел, брал и отпускал, что ему заблагорассудится, а дома, по вечерам, ее согревал огонь, от которого веяло всеми запахами земли и одиночества. Короче, это была настоящая деревушка. Будь Жозе постарше или менее начитана, ее вряд ли привлекла бы мысль о заброшенной деревне, где можно отдышаться и поразмышлять о будущем. Но, по сути дела, ничто пока не было ни разрушено, ни потеряно, даже время, и, несмотря на мучительные уколы памяти, все вчерашние невзгоды пощадили ее душу и тело. Она могла оставаться здесь долго, пока не надоест. Или возвратиться в Париж, чтобы начать все сначала. Попытаться найти плод, о котором говорил Алан, обрести подобие покоя, работать или развлекаться. Она могла бродить пешком, подставляя лицо ветру, слушать пластинки или читать. Она была свободна. Чувство свободы вызывало известное удовлетворение, но не восторг. Опорой ей служил неисправимый оптимизм – то была неизменная черта ее характера.