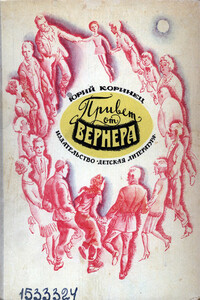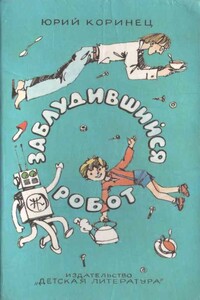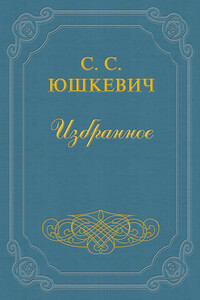Видели бы вы этого маленького лесовичка в тихой, разноцветной таежной чаще! Как он сидел, скрестив на моховой подушке ноги, и пил, и дул на чай, и щурился от удовольствия, и жевал облизываясь, и вздыхал от тихой радости, и глядел мягкими синими глазами в удивленно и преданно смотревшую на него невидимыми взорами лесную чащу!
Потом Володя опять шел — не спеша, спокойный, думая о дедушке, о тихой чистой избушке деда с белым, выскобленным полом, со смолистыми бревенчатыми стенами, в которых торчит между бревен сухой желтый мох, с маленьким, то голубым, то черным, то золотым, окошком на реку, с кроватью — дедушкиной и Володиной — под высоким, до потолка, белым марлевым пологом от комаров, с белой, побеленной глиною и разрисованной глиной же большой пузатой русской печкой. Шел и думал о маленькой бане на берегу, возле самой воды, в которой они с дедушкой непременно сразу же напарятся, а потом будут нырять с прилипшими к телу березовыми листиками в холодные воды Илыча — прямо из облаков горячего пара в облака ледяных брызг над маленьким речным порогом с холодно-кипящей водой, от которой так захватывает дух, что легкие замирают — останавливаются, и сердце останавливается, и мгновенно застывает разгоряченная кровь! Шел Володя и думал, как пойдут они с дедушкой сено ворошить и семгу из сетей вынимать, и как они ее потом жарить будут, жирную, розовую, и солить, а если икрянка попадет, и икру солить будут. И как они с дедушкой по ягоду пойдут — по клюкву на болота и по грибы на вырубки, в яркие чащи, — думал о всех этих простых человеческих радостях, даже не думая о том, что это простые и великие радости, которые не каждому в этом мире даны. Думал о них просто потому, что любил их, жил ими. Он думал еще о том, что скоро зима — пушистый снег хлопьями в воздухе и сугробами на земле и синий лед на реке, по которому он будет бегать на коньках в короткие серенькие зимние дни: И о школе он тоже подумал, и об Алевтине, что опять будет сидеть с ней рядом на первой парте в теплой, маленькой зимней школе и играть на переменках в салочки. Он с удовольствием подумал о том, как будет с Алевтиной смотреть вечерами в школе телевизор — разные передачи из Москвы по системе «Орбита», и делать уроки возле замерзшего пальмами окна в теплой избе, когда за стеной и в трубе поет вьюга свою бесконечную зимнюю песню…
Так он шел и думал о разных приятностях, и мысли его шли с ним в ногу, обегая в тот же миг огромные расстояния — во времени и в мире — по всей земле… Так он шел до ночи, а потом лег спать.
…Главный Муравей — откуда ни возьмись! — вытер мокрое, распаренное лицо — так стало жарко; он сидел рядом с Володей, черно-красный, с головы до ног блестящий от пота.
— Ну, как, ты доволен? — спросил он важно. — Костер получился на славу! Посмотри!
Действительно, такого костра Володя сроду не видал! Ворох сухих деревьев громоздился под самые облака и, подожженный снизу, разгорался все сильней — с шумом и треском…
— И когда вы это натащили? — удивился Володя.
— Хе! Нам это раз плюнуть! — усмехнулся Главный. — Нас — муравьев — почитай, тыщи: каждый деревяшку притащит, вот и целая гора! А если по две деревяшки?
Деревяшками он с презрением называл огромные ели и лиственницы — таежный сухостой. Костер был сделан с умом, в этом муравьям не откажешь: деревья сложены аккуратно, комлями кверху. Все костровище по форме напоминало муравейник.
— Спасибо вам! — поблагодарил Володя и осторожно добавил: — Только… уж очень жарко!
— То есть как? — обиделся Главный. — Для тебя же старались! Чтоб теплей было! Сам же просил…
— Просил? Что-то не помню, — удивился Володя.
— Как же так? — в свою очередь, удивился Главный. — Вчера, перед рассветом, когда иней выпадал — в тумане у кургана, помнишь? Ты еще сказал: «Хорошо бы костер! Поярче! Да спешить надо!»
— Так это же я про себя подумал! Как ты узнал?
— Я, брат, все твои мысли знаю! — с гордостью сказал Муравей. — Для меня это тоже пара пустяков! Видишь антенны? — Он дотронулся вилообразной лапой до своих длинных, членистых усиков. — Этими антеннами я и ловлю твои мысли!