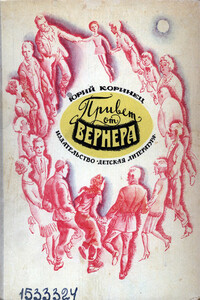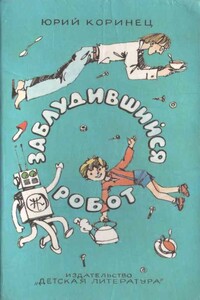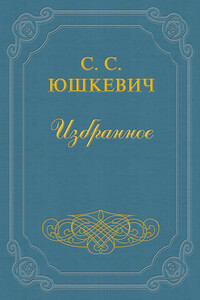«Эти лиственницы как кудрявые девушки, — подумал Володя. — А сосны — стройные великаны. А ели — мрачные старики…»
Володя опять подумал о Прокопе.
— Странно, что я о нем так часто думаю, — вслух сказал Володя: здесь, в тайге, тишина еще больше располагала думать вслух — разговаривать с самим собой. Володя любил в тайге разговаривать с самим собой.
— Странно, что я о нем даже больше думаю, чем дома. И о других — об Алевтине, о дедушке, о брате — я тоже больше думаю. Вот я вроде совсем один, а они не покидают меня. Все время они со мной, пока я тут иду…
Его мысли опять вернулись в деревню, к одной прошлогодней истории.
…Появились в деревне геологи. Володя их хорошо помнит: было их трое, все в защитного цвета костюмах, с «молниями» вместо пуговиц, с пришитыми к воротникам капюшонами, мятые брюки заправлены в сапоги.
Прибыли они снизу, от устья, на большой моторке, пристали возле Прокоповой баньки холодным осенним вечером. Прокоп аккурат на берегу оказался. Геологи попросились ночевать, вот Прокоп и повел их к себе. Повел их на их же горе…
Володя хорошо все помнит. Он сидел в тот вечер в гостях у Алевтины — как раз ей вслух книжку читал, когда за дверью, на крыльце, залаяла собака и зазвучал повелительно-радостный, громкий голос Прокопа:
— Проходитя, проходитя, гости дорогие! Чем богаты, тем и рады! Будьтя как дома!
Володю в тот миг поразило лицо Алевтины: только что веселое, оно сразу осунулось, морщины легли возле губ — Алевтина показалась маленькой старушкой. Володя запнулся на самом интересном месте книжки…
А в голосе Прокопа за дверью звучало что-то возвышенно-радушное, приятное для геологов — потому что те еще не знали Прокопа — и неприятное для Алевтины с Володей, потому что они Прокопа знали, знали его мрачность и злобу. И знали, конечно, подлинную цену этому радушию, и то, чем все это кончится.
— Вешайтеся здеся, в углу! — радостно шумел Прокоп уже в избе.
В подобных случаях он всегда говорил «вешайтеся», «кушайтеся» — это была у него сверхвежливая форма, он образовывал ее от глагола «садиться».
— Ну, а теперича давайте познакомимся! Как люди! — сказал Прокоп и достал, словно великую драгоценность, свою вялую мокрую руку и сунул ее всем геологам по очереди, с улыбкой внимая незнакомым именам. — Тебя как звать? — переспросил он усатого.
— Вениамин, Вениамин Николаевич.
— Мудрено! — усмехнулся Прокоп. — Лучше я буду звать тебя Валькой…
В щелку двери Володя видел, как геологи смущенно вытирают платками руки.
— Алевтиночка, ненаглядная! — вскричал Прокоп. — Собери-ка на стол дорогим гостям!
«Выкомаривается-то как ловко! — думал Володя. — Наверное, давно не пил!»
Алевтина вышла собирать на стол, загремела в буфете глухо звякающей, надтреснутой посудой. Володя знал, что по негласному наказу отца она соберет на стол только хлеб и чай, да и чай жидкий, вчерашней заварки.
Гости проходят к столу, немного смущенные горячим приемом. С обветренными лицами, красные, усталые: один — бритый, спортивного вида, с прической ежиком; другой — небольшого роста, кудрявый, с усиками; третий — старый уже человек, широкий в плечах, рослый, с окладистой седеющей бородой.
— Садитеся, гости дорогие! — суетится возле геологов Прокоп. — Сейчас чайку с дороги! Чай-то у меня горячий — в печке, в чугуне… недавно топили… Достань-ка, доченькя, чугунок! Надо бы, конечно, чего покрепче, сапромат его задери!
Слово «сапромат» было любимым словом Прокопа, которое он то и дело вставлял в свою речь на удивление слушателей, еще ему не знакомых.
— Чугунок-то вылей в самовар, доченькя! — распоряжается Прокоп. — Мы, чай, тоже культурные…
— Дай-ка я помогу, — встает бритый геолог.
— А вы не беспокойтеся! — обиженно вскакивает Прокоп. — Не беспокойтеся, товарищ! Она нальет! Она у меня ох какая хозяйка! Правда, доченькя?
Алевтина молчит. Ей уже заранее стыдно за все. И за развязку.
— Она нальет! — неумолчно тараторит Прокоп. Он вдруг хихикает: — А ваше дело, если уж хотите, еще чего-нибудь налить! Я извиняюсь, сапромат его задери! С вас причитается! С приездом! Ха-ха-ха!
Геологи шепчутся, маленький с усиками выходит в сени, возвращается с двумя бутылками водки в вытянутых руках и ставит их на стол. Глаза Прокопа суживаются, загораясь зеленым. Он облизывает языком сухие, запекшиеся белизной в углах губы и глотает слюну: