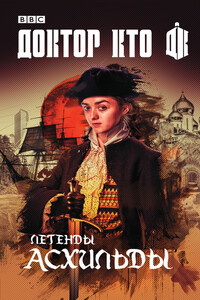Германцев выпалил наболевшее и осекся, глядя почему-то в ужасе на Блонда. Тот постарался максимально доверительно улыбнуться и успокоил несчастного:
— Продолжайте, Ефим Семенович, я, конечно, не психоаналитик, но ничего тревожного пока в вашем сновидении не обнаруживаю.
— Именно что пока, — встрепенулся и вышел из столбняка спикер. — Дальше — больше. Я вдруг вижу, что по дороге идет кто-кто. Лицо все в крови, а сам в черной коже.
— А вы, я извиняюсь, садомазохизмом не балуетесь? — с трудом скрывая внезапно ставшее необоримым раздражение, уточнил спецагент.
— Да при чем тут моя личная жизнь? — гневно покраснел демократ. — А бегемота вы как объясните?
— Какого бегемота, Германцев? Излагайте конкретно, или вы хотите, чтобы я сообщил кое-кому, что у вас белая горячка, провоцирующая склонность к зоофилии? Полагаете, вам более адекватной замены не найдется? — мрачно осведомился Блонд.
— Бегемот прибегает из ниоткуда и топчет дорогу, — истошно заорал спикер, словно бы вовсе не слыша отрезвляющих слов. — Да, блядь, стирает ее в порошок, в пыль, а сам на меня рычит и скалится, что, мол, сожрет меня, если служить ему не буду. Прямо надвигается всей тушей, бурый такой, огромный. И чем ближе ко мне, тем он меньше на бегемота похож, а просто какое-то нечто булькающее. А потом оно уже раз — и со всех сторон, А я, как в болоте, в нем захлебываюсь и просыпаюсь.
Германцев опустошенно умолк и уставился в пол, сотрясаемый какими-то внутренними конвульсиями. Он по-прежнему был кудряв и моложав, но из глаз напрочь исчезла так характерная для него прежнего раздолбайская беззаботность. В них поселился кромешный, неизбывный ужас затравленного, потерявшегося в чудовищном мире кролика.
Блонд гадливо наблюдал за этим человеко-студнем, размышлял недоуменно: «Что же так высших братьев-мастеров встревожило? Просто больной придурок, он и раньше-то небольшого ума был, а как власть на него свалилась, и последнего лишился. Но делать-то мне нечего, придется эту галиматью дешифровывать».
Агент встал, прошелся (руки за спину) по залу.
— И давно это с вами? — резко обернулся к измученному спикеру.
— Дорога с месяц как видится, а бегемот почти сразу, как я в должность вступил, приходить начал, — не поднимая глаз, сообщил Германцев.
— Белая дорога — это кокс, как я понимаю. Давно подсели? — уточнил на всякий случай Блонд.
— Ну, какая, в самом деле, разница? — всплеснул руками спикер. — Вы что, когда-нибудь с подобными эффектами от его употребления сталкивались, слышали о таком?
Агент решил, что спрашивать, собственно, больше нечего. Надо переждать, кремлевским воздухом подышать, что ли. Раз рациональных ответов не подыскивалось, приходилось уповать на интуицию. Она у Блонда была донельзя развита. Никак не меньше интеллекта. Что и послужило, как он теперь догадывался, причиной того, что разгадывать этот сумбурный ребус отрядили именно его.
Между тем требовалось в данном случае не столько это, без сомнения, замечательное свойство, сколько умение видеть сквозь толщу времен (такие специалисты в распоряжении всемирной олигархии, конечно, имелись). У Блонда же подобное зрение пока даже не прорезывалось. Иначе он, познакомившись с темой, обсуждавшейся без малого сотню лет назад в том самом зале, где они с Германцевым сейчас находились, понял бы многое…
* * *
— Этот вариант, только этот, — процедил сквозь зубы неумолимый Троцкий, тыкая когтистым пальцем в пирамидообразную модель ленинского мавзолея. При этом широким жестом смел на пол кипу других проектов увековечивания любимого вождя.
— Но почему, в конце концов, Лев Давидович? — не выдержал Бухарин. — На каком основании вы навязываете партии ваши модернистские вкусы?
— А вот на каком, — цинично усмехнулся Троцкий и насыпал на красный кумач цековского стола белоснежный сугробик кокаина.
Прочих старых большевиков аж передернуло, и тут же к нему потянулись одна за другой дрожащие руки. Однако глава рабоче-крестьянской Красной Армии безжалостно дунул, и вожделенный порошок бесполезным маревом повис в воздухе. Товарищи заскрежетали зубами и упали, обессиленные, в кресла. Выглядели они, прямо скажем, не лучшим образом — красные дрожащие веки, пересохшие высунутые языки. Троцкий злорадно усмехнулся, ощущая безграничность своей над ними власти.