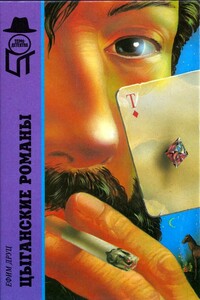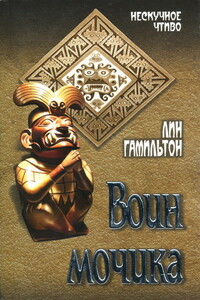Митя бродил по лесу и думал о том, что это пристанище ненадолго и, наверное, ему придется уходить.
Это проклятое им прошлое по-прежнему бесновалось где-то внутри, сколько бы он ни заставлял себя забыть его…
«Невозможно уберечься от жизни, — думал он, — да от нее и не берегутся. Все боятся смерти, хотя и ничего о ней не знают. Может, это как раз и есть избавление? Покой, который наступает вслед за тревожно-суетливой сменой времен года, наверное, не так уж и плох?!»
Долгое блуждание по лесу наконец привело его на большую поляну, где, несмотря на то, что было почти совсем светло, горел костер. Около костра сидела старуха-цыганка, ее седые взлохмаченные волосы были похожи на большую лохматую шапку. Митя подошел к костру, но старуха даже не обернулась на треск веток под его ногами.
— Уходить тебе надо, гаджё, — сказала она неожиданно, так, что Митя вздрогнул.
— Почему? Ведь меня ищут, за мной смерть следом идет!
— Это так, — сказала старуха, — но здесь ты принесешь много горя тем, кто оказал тебе приют. Закон не позволил им прогнать тебя, но в душе своей они сомневаются, правильно ли поступили.
— Я это чувствую, — согласился Митя.
— Так уходи, гаджё, не накличь еще большей беды.
— Куда мне идти, старая? — горько спросил парень.
— Мир велик, морэ, в нем легко затеряться…
— Правда твоя, земля большая, да нет на ней места для меня…
— Что-то ты, морэ, не по годам крест на себя повесил. Или решил, что окончена жизнь и делать тебе в ней нечего?
Старуха окинула Митю таким пронзительно-жестким взглядом, что любой другой на его месте не выдержал бы, отвел глаза в сторону. Но Митя продолжал смотреть на цыганку не отрываясь, словно от того, что она сейчас скажет, зависела вся его дальнейшая жизнь.
— Судьба твоя — страдать, но и радости ты изведаешь! Помяни меня, я верно говорю, — наконец проговорила цыганка.
— Не надо мне радости, старая, видел я ее, эту радость, она смертью пахнет.
— Ишь ты, все наперед знаешь. От того смерть идет, кто любви не знает. Если та, что тебя к смерти принудила, от Бэнга[5], то это еще не значит, что других нет. Дэвла все видит. Может, он тебе специально испытание послал?
— Кто это, Дэвла? — спросил Митя.
— Бог наш цыганский. — Старуха хотела еще что-то добавить, но ее прервал подбежавший Тари:
— Прости, старая, Михай зовет…
Это значило, что случилось что-то важное, потому что без дела Михай никогда бы не стал беспокоить пхури[6]. И Тари спешил, потому что тоже знал это. На Митю он даже не взглянул. Старая цыганка отметила это с большим одобрением — именно за неукоснительное соблюдение цыганских законов она и любила Тари. Но уж больно горяч был ром, мог в запале натворить чего не следует. «Надо будет поговорить с ним как-нибудь», — отметила про себя старуха.
— Ладно, гаджё, пойду я, дела у меня, еще поговорим, — после некоторой заминки проговорила старуха и медленно пошла к палатке Михая.
Митя и Тари остались вдвоем. Цыган хотел было тут же уйти, но Митя удержал его.
— У вас, что, принято — на людей не смотреть? — негромко спросил он.
По закону Тари мог ему и не ответить. В самом деле, кто он был для него, этот пришелец? Но цыган остановился.
— Чего тебе? — раздраженно спросил Тари. — Чего ты хочешь?
— Ишь ты, заноза, — улыбнулся Митя, — ершистый. Поговорить хочу. Разве я тебя обидел чем?
— Пути наши разные, — уже спокойнее ответил Тари, — но я бы тебя в таборе не оставил.
— Это почему же?
— Бедой пахнешь, — просто сказал цыган.
— Чужой жизни так сразу не поймешь, — попытался было объяснить Митя, — и судить ее с наскока невозможно…
— Чужой ты, — убежденно проговорил Тари, — и этим все сказано.
Повернулся Тари и пошел не оглядываясь, будто за спиной что-то неинтересное для него осталось и сделал он одолжение тому, с кем поговорил при случайной встрече. Горький осадок остался у Мити от этой встречи и этого разговора. И что тут поделаешь, ведь действительно — чужой, и милость они ему оказывают, что прячут у себя.
«Надо уходить, — подумалось ему, — мало ли что придет им в голову, могут и донести! Хотя по их законам такого и не полагается, но ведь могут отыскаться и такие, что сочтут донос за благо».
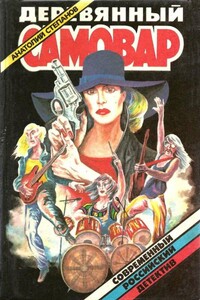

![Исповедь сыщика [сборник]](/uploads/books/images/7d/7d0846d9c7fe79b943af20d517afd1947255850c.jpg)