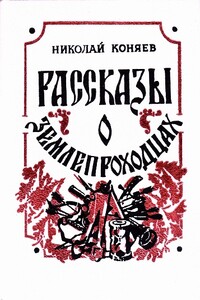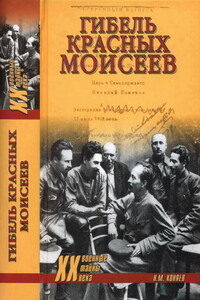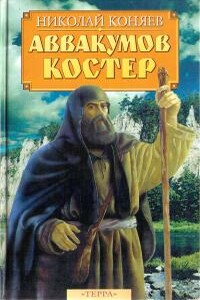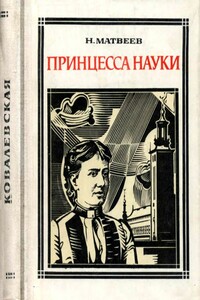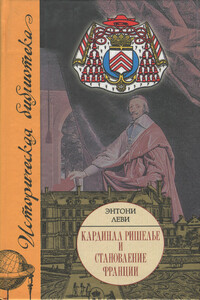Погоревав о разорении, которое Соловецкому монастырю несла война, рассказал игумен Илия и о Церковном Соборе, что проводил Никон в марте месяце.
— Антиохийский патриарх Макарий опять на Москву за милостыней приехавши. Не знаю, сколько насобирал, но Никону во всём поддакивает. Никон-то наш теперь великим государем, архиепископом Московским и всея Великия, Малые и Белые России и многих епархий, земли же и моря, сея земли патриархом величается... С Макарием он ещё на ровнях держится, зато сербскому патриарху Михаилу и патриархом зваться запретил. А нас, малых своих, и вообще не зрит, до того мы мелки перед ним стали.
Повествуя о московских новостях, несколько раз прерывался игумен, удаляясь в боковую келью, и, когда возвращался, слышно было, что пахнет от него вином.
— Грешен, отче Иоанне, грешен... — заметив взгляд Неронова, покаялся Илия. — Сам вижу, что грешен, а как с Москвы вернулся, не могу от пития отстать. Только подумаю, как Собором Никон с Макарием прокляли всех, творящих двумя перстами крестное знамение, так и не знаю, как жить оповадиться... Ладно мы, до седых лет доживши, лба перекрестить по-православному не умели. Дак они с побирушкой Макарием и святых отцов наших, чудотворцев Зосиму и Савватия, церковному проклятию предали... Как такое, отче Иоанне, в голову вместить?
Опустил голову Неронов. Страшную правду говорил игумен, страшно было и думать об этом.
Сколько времени так прошло?
Пал на колени захмелевший Илия.
— Страдальче! — простирая к Неронову руки, взмолился он. — Бием одолевай. Храбрый воине! Подвизайся...
— Полно, отче... — поднимая игумена, сказал протопоп. — Отдохни маленько. Бог милостлив. Всех зрит. И беззакония Никоновы видны Ему. Всё в Божией воле...
Три дня провёл в Соловецком монастыре Неронов. Молился у мощей святых чудотворцев Зосимы и Савватия, об одном просил святых чудотворцев — путь указать.
На третий день зван был Неронов от молитвы к старцу Мартирию. С первого дня просился Неронов к нему, но не принимал никого старец, немощен был. Сегодня позвал. Вошёл Неронов, как в ночь, в темноту кельи. Встал в дверях, молитву творя.
— Бегаешь, отче? — раздался из тьмы дребезжащий голос.
— Бегаю, святой отец... — ответил Неронов. — Душа изнемогает... Научи, что делать?
— А что тебе назначено, поп Иван, делать, тое и делай. Молись.
— Я молюсь, отче... Чудеса творятся, а на душе всё одно — тяжесть... С весны, как на Соборе прокляли, тоска встала. Словно сам на погибель иду и детей духовных туда волочу. Аввакума, сына моего духовного, уже на самый край земли загнали. Что творится, отче? Ведаешь?!
— Всё, Иоанн, должно совершиться, чему назначено совершиться, — ответил Мартирий. — Смирением Церковь Православная держится, а не гордыней. Возвращайся назад, в Москву.
— Туда и думано брести... — сказал Неронов и тут же увидел Мартирия. Совсем рядом, тяжело опираясь на посох, стоял старец. Белела в полутьме струящаяся по груди старца борода. — Думал Елеазара повидать, да к вам буря вынесла...
— Не пустил тебя Елеазар к себе... — сказал Мартирий. — Ступай в Москву, отче... А к Аввакуму твоему уже послан новый духовный отец. Когда надо будет, придёт к нему. Ступай с Богом...
На следующий день, простившись со своими чадами, оставшимися на Соловках, на монастырской ладье уплыл Неронов в Архангельск.
Всюду заставы стояли, посланные патриархом ловить его, но не держались цепи на Неронове, не загораживали путь никакие заставы... Сквозь заставы, сквозь дебри лесные, сквозь болота, затянутые мхом, к декабрьским холодам добрел до Москвы протопоп.
Притих, запустел после чумы город...
Пока чёрная смерть гуляла, многие посадские при живых ещё супругах в монастырь уходили. Теперь возвращались. Во дворах московских то и дело теперь чёрные клобуки мелькали. В тех же клобуках и на рынке за прилавками многие стояли...
И Неронова, когда на двор свой вошёл, тоже за монаха приняли. Бегавшая тут молодая баба вынесла из дома кусок хлеба и поднесла с поклоном.
— Возьми, старче!
— Храни Господи! — отвечал Неронов, принимая милостыню. — Чья будешь-то, милая?
— Дак Феофилактова жёнка... — отвечала баба.