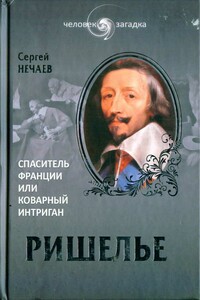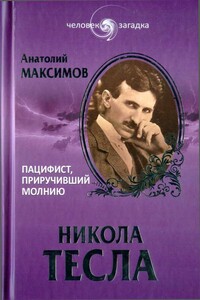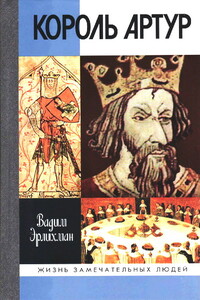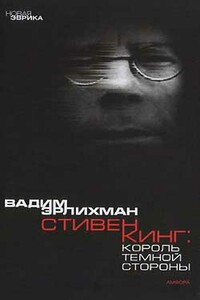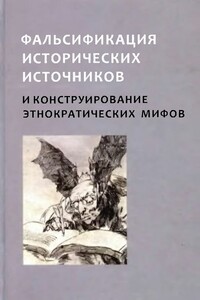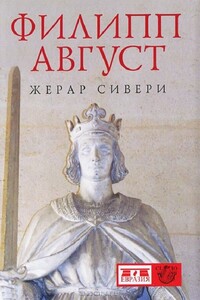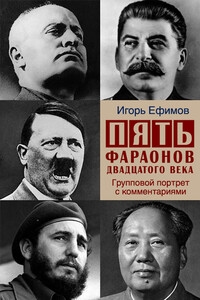Ученые, вначале ставшие в тупик, быстро додумались объяснить телепатию с помощью идеомоторных реакций. Уже в 1874 году американский психолог Джордж Берд изобрел термин «чтение мышц» (muscle-reading); позже его принципы легли в основу известного «детектора лжи», или полиграфа, где идеомоторика фиксируется с помощью технических средств. Берд доказывал, что «чтением мыслей» может овладеть почти каждый. Ему возражал немецкий профессор Карл Прейер: «Каждый человек читает по движениям мускулов, но не каждый способен достигнуть величайшей степени ловкости в этом искусстве». Так оно и было: этот талант развивали в себе немногие, а остальные с удовольствием ходили на их выступления.
В 1920-е годы «эстрадная телепатия» достигла пика популярности в Европе, стремящейся забыться после ужасов войны. Ученые, в том числе российские, продолжали активно изучать это явление; среди тех, кто интересовался им, был и великий В. Бехтерев. В 1928 году сотрудник ленинградского Института мозга А. В. Дубровский выступил с научным докладом «О так называемом «чтении мускулов»», где раскрывалась как техника чтения идеомоторных актов, так и особенности воздействия «эстрадных телепатов» на публику. Благодаря последнему улавливание идеомоторных движений человека воспринимается зрителями как настоящая телепатия, т. е. чтение мыслей на расстоянии. Дубровский указал: «Едва заметные идеомоторные движения мускулов объекта опыта воспринимаются безотчетно (бессознательно) периферическими разветвлениями нервной системы, так называемыми кожными трансформаторами экспериментатора, и по нервным проводникам в виде нервного тока достигают центральной нервной системы, в частности, тех областей коры головного мозга, которые управляют ответной реакцией экспериментатора в виде ряда двигательных актов, которые ведут к выполнению задуманного объектом опыта».

«Чтение мыслей» — сложное занятие
«Эстрадные телепаты» раньше ученых поняли, что идеомоторные реакции легче заметить, если не просто глядеть на человека, а держать его за руку. Еще в 1913 году французский физиолог, нобелевский лауреат Шарль Рише описал выступление одного из таких виртуозов: «Субъект А, чуткий или якобы чуткий, во всяком случае расторопный, заявляет, что он может, держа кого-нибудь за руку, угадывать мысли этого лица. Он приводит на сцену субъекта Б, взятого наудачу из толпы. Несчастный Б, смущенный тем, что на него смотрят, нерешительный, неуклюжий, держится за руку А. Субъект А заставляет его ходить рядом с собой — быстро или медленно — и по движениям Б вследствие своей некоторой проницательности сразу догадывается, куда хочет привести его Б. Таким образом, он прямо подходит к какому-нибудь месту в зале (это и есть место, задуманное Б). Он останавливается перед одним из присутствующих и, продолжая держать руку Б, который по-прежнему направляет его своими движениями, роется в карманах зрителя, вытаскивает носовой платок и уносит его в другой конец театра, к громадному удивлению присутствующих, в особенности самого Б, который имел в виду все эти маневры и который воображает, что А прочел его мысли. В действительности А только ловко истолковывал бессознательные, невольные, наивные движения этого самого наивного Б, который и не воображает, что легким движением своих мышц он давал крайне точные указания. И публика покидает зал, убежденная в том, что видела телепатические явления. Таким образом, создается у толпы вера в телепатию, оказывающуюся явлением столь простым и очевидным. Во всем этом, однако, столько же телепатии, сколько в сокращениях мышц лягушки, возбуждаемой током электрической батареи».
В принципе Мессинг и многие его коллеги занимались абсолютно тем же самым. В одном из интервью Вольф Григорьевич с необычной для себя откровенностью объяснил: «Это не чтение мыслей, а, если так можно выразиться, «чтение мускулов». Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются. Допустим, что, выполняя задание, я в какой-то момент совершаю ошибку. И тут же индуктор совершенно бессознательно, помимо своей воли, «сообщит» мне об этом. Его рука окажет неуловимое сопротивление, и нужно обладать большой чувствительностью, чтобы воспринять это. Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором и даже с завязанными глазами. Здесь указателем мне может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки и т. д. То, что мои глаза завязаны, больше всего действует на аудиторию. Мне же работать с завязанными глазами даже удобнее: я лучше сосредотачиваюсь. Такова в принципе моя методика «чтения мыслей»».