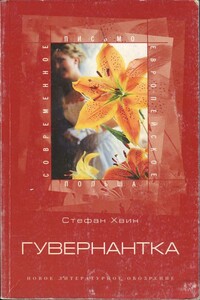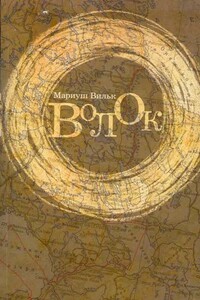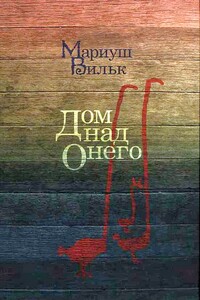Конечно, легче всего заметить внешние приметы: количество, обряды, частоту… Самое же неуловимое — внутри, наедине с собой. Раньше в Египте и Сирии монахи в Пост уходили в пустыню, поодиночке. Святой Феодосий, отец русского монашества, перенял этот обычай и на период Поста затворялся в пещере в скале «вплоть до вербной недели, а в пятницу той недели, в час вечерней молитвы, приходил к братии». На иконах старец Печерский держит в руке свиток с надписью «Постом и молитвою попечемся о спасении душ», в память о том, что и Господь наш Постом и молитвой в пустыне сатану победил, давая пример изгнания собственных бесов… Позднее на протяжении веков в русских монастырях выработался сложный ритуал великопостного покаяния, в котором, помимо сдержанности и умерщвления плоти, важную роль играли духовные упражнения, молчание и медитация. Паисий Величковский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов и другие православные старцы писали целые путеводители духовных поучений, демонстрируя удивительное знание человеческой психологии. В Великий пост к монастырям тянулись и светские люди — власть имущие, купцы, поэты, — чтобы в тишине кельи, вдали от повседневных дел, найти в себе «внутреннего человека», как говорит отец Герман.
И наконец: Пост в искусстве. За писание житий и икон принимались на Руси лишь после поста. А Александр Сергеевич Пушкин в одно из своих последних стихотворений вплел молитву святого Ефрема Сирина, которую во время Великого поста братья в храме читают ежедневно — на рассвете, в полумраке, кладя поклоны…
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
5
Это случилось в Страстную пятницу, несколько лет назад… После многодневного Поста в наиболее его суровой монастырской практике я ощутил среди верующих — послушников, паломников и церковных бабок — растущее с каждым днем напряжение, объяснявшееся, вероятно, голоданием и многочасовыми обрядами — в облаках ладана, коллективном экстазе, мистических полугаллюцинациях. Об этом еще Розанов писал, утверждая, что несколько недель монашеского образа жизни и богатыря превратят в неврастеника. Под конец поста все оказались на грани этого «тонкого сна», в котором монахам являются святые, Богоматерь или же дьявол. И вот наступила Страстная пятница… Утренняя служба. Экстаз достиг предела, истерии! И вдруг ненависть выплеснулась — фанатическая, зловещая. К евреям, Его распявшим. Ярость, крики, рыдания.
— Иудее, богоубийц собор, Иудее, богоубийц сонмище, — не смолкали вопли. — Даждь им, Господи, по делом их, яко не разумеша Твоего снисхождения…
…я не выдержал, покинул храм. Навсегда. Не знаю, что подействовало на меня больше: коллективное безумие, свидетелем которого я стал, или солидарность с Вероникой. Назавтра, в Страстную субботу, мы пошли в Филиппову Пустынь, загорать. День был чистый, словно колокольный звон, солнце пригревало, снег таял, капель. В воздухе пахло молодыми еловыми ветками, смолой и весной. Стояла такая тишина, что слышно было, как кровь в жилах шумит. После тех криков покой этот казался святым. После тех бесплодных битв эти лесные запахи — истинным кадилом. После той церкви этот мир — храмом.
6
Сидя на завалинке моих Соловков, спиной привалившись к Полярному кругу, я вспоминаю слова де Местра: «Я постепенно начинаю снисходительно смотреть на земной шар — всего лишь девять тысяч лье в диаметре. Фи, словно апельсин».