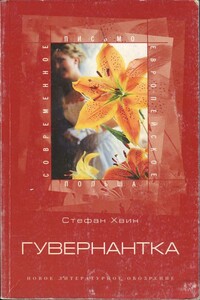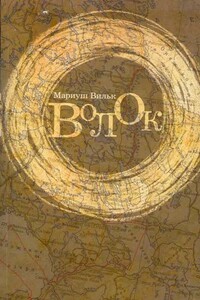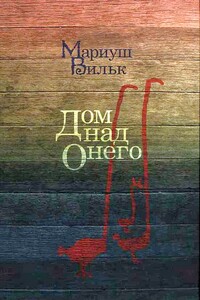И наконец, язык: «…Я стараюсь писать короткими фразами, — читаем мы в “Лапидарии III”, — задающими темп и движение. Они стремительны и сообщают тексту прозрачность. Но, работая над “Империей”, я вдруг осознал, что здесь описание требует более долгих периодов, их диктует масштаб темы, неподвластный коротким предложениям. Стиль должен соответствовать предмету. Вот и для описания бескрайнего российского пейзажа необходимы длинные фразы». Итак, сравним: «… русский язык с его фразой — широкой, пространной и бесконечной, словно русская земля, — это уже из “Империи”, — ни декартовской дисциплины, ни афористичного аскетизма». Да неужели? А лаконизм Гоголя, Ахматовой, Шаламова? Варлам Тихонович писал, что в русском языке существуют две традиции: толстовская фраза, замедленная и тяжелая — словно лопата переворачивает пласт земли, и пушкинская, короткая и звучная, будто пощечина. Забудешь об одной из них — и Россия откроется тебе лишь наполовину (согласно формуле Милоша, утверждающего, что в русском языке содержится вся информация об этой стране).
5
С развитием массмедиа в России появился новый тип пишущих иностранцев — заграничные корреспонденты. К сожалению, в большинстве случаев их сочинения грешат как раз тем, о чем писал Ключевский. В начале девяностых я работал в Москве на польскую газету и имел возможность своими глазами понаблюдать за работой коллег. Особенно один мне запомнился, не буду уж называть фамилию: писал для трех изданий разом, а из всех событий текущего дня самым важным считал «Последние известия», из которых лепил пару анекдотов, которые выдавал вечером за собственные наблюдения. Другие, чуть менее избалованные, мотались по всевозможным пресс-конференциям, собраниям и банкетам, где прилежно глотали подаваемую к столу чепуху. Надо признать, что блюдо это в России сервируют мастерски, в чем имел возможность убедиться не один иностранец, взять хотя бы маркиза де Кюстина. Кое-кто черпал вдохновение из российских телеканалов. Добавьте к этому спецлавочку на Беговой, где отоваривались корреспонденты, поскольку в Москве царил дефицит, и многие другие привилегии, словно матовым стеклом отгораживавшие нас от действительности, и станет ясно, что образ России в заграничных СМИ и собственно Россия — это две разные страны. Дело не только в психологии — лени, невежестве (вышеупомянутый коллега Гоголя не читал, а «Повесть временных лет» приписывал Пушкину!). Свою роль играют и объективные факторы: вечная спешка (успеть к выходу номера!), не дающая сосредоточиться и разглядеть более глубинные явления, которые для правильного диагноза зачастую оказываются важнее, нежели эффектная, но поверхностная «новость»; стадный журналистский инстинкт, заставляющий корреспондентов валом валить на место происшествия, будь то война, путч или пресс-конференция, и писать, комментировать одно и то же; погоня за сенсацией, скандалом и кровью, пренебрежение к повседневности, непривлекательной для массового читателя; внимание к большой политике при игнорировании окраин и провинции. В результате львиная доля журналистских сообщений о сегодняшней России не выходит за рамки стереотипов, штампов или легенд.
6
Вот взять хотя бы вьюшку — заслонку в русской печи.
У Розанова в «Опавших листьях» можно найти такой абзац: «Теперь в новых печках повернул ручку в одну сторону — труба открыта, повернул в другую сторону — труба закрыта. Это не благочестиво. Потому что нет разума и заботы. Прежде возьмешь маленькую вьюшку — и надо ее не склонить ни вправо, ни влево, — и она ляжет разом и приятно. Потом большую вьюшку, — и она покроет ее, как шапка…» Как же иностранцу понять «благочестивость» Василия Васильевича в этом абзаце? Ведь в европейских домах — ни русских печей, ни вьюшек. Впервые знакомясь с «Опавшими листьями» — в московском небоскребе неподалеку от Измайловского парка, — я не обратил внимания на тонкость размышлений автора о заслонках и богобоязненности. Опыта не хватило, воображение дремало. Во второй раз я читал Розанова на Соловках, в здании бывшей биостанции, на Сельдяном мысу, долгими зимними вечерами просиживая перед открытой дверцей нашей печки. Огонь трещал, пламя отбрасывало тени на стены, в окнах, словно в волшебном фонаре, мелькали отблески, а на ночь я накладывал сперва маленькую вьюшку, заботливо, так, чтобы не склонить ни вправо, ни влево, потом большой покрывал ее, словно шапкой. И — разом, и приятно — ощутил точность мысли Розанова. Можно сказать, опробовал ее на себе.