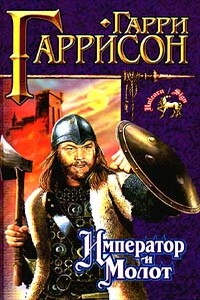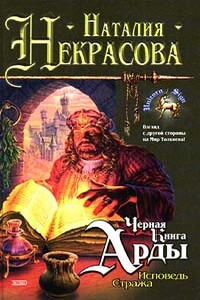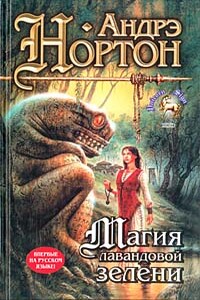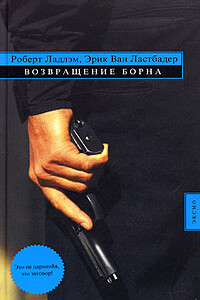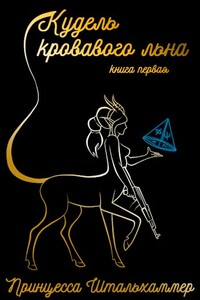У него были тысячи знакомых, но мало друзей, отчего его дружба с Мойши казалась делом необычным. Мойши в нем отчасти привлекала, конечно, странность, поскольку сам Мойши зачастую тосковал в обществе людей, которым, кроме баб да денег, больше ни до чего дела не было. И, несомненно, именно тогда Мойши сильнее всего тянуло в бурное море, ко вздохам влажного соленого ветра над натянутыми канатами, к успокаивающему покачиванию просмоленной палубы, к брызгам, летящим изпод рассекающего волны носа корабля, когда все паруса обвисли в предчувствии грядущего ветра.
Не то чтобы им обоим не везло с женщинами. Не раз они отправлялись в странствие по обширному лабиринту городских улиц в поисках совершеннейшей из всех шлюх. Конечно же, их поиски так и не увенчались успехом, поскольку иначе тогда их забавам пришел бы конец. Коссори был невероятно жаден до женщин. Не обязательно изза плотских утех – сочувствие, казалось, для него куда важнее. И не раз уже Мойши видел своего друга в тяжелом, иногда безнадежно угнетенном состоянии, даже среди веселой ночки в мягких объятиях женщин Шаангсея.
Этим вечером Коссори сидел в середине площади Джихи, в тени памятника Кири из белорозового кварца, памятника последней императрице Шаангсея. Скульптура представляла собой женщину, превращающуюся в КейИро Де, божественного покровителя города, чтобы, как говорили легенды, хранить Шаангсей от всех напастей. Это был морской змей с женской головой. Как потом говорили очевидцы – те, кто называл себя очевидцами, – они своими глазами это видели, именно так погибла Кири в последний день Кайфена. И кто мог возражать им? Так думал Мойши, глядя с теплотой на каменное подобие лица Кири. В своих с ДайСаном приключениях он был очевидцем многого куда более странного и страшного.
Через суетливую толпу людей, спешащих на ужин домой или в прокопченные харчевни города в преддверии загульной ночи, он пробился к Коссори.
Коссори играл на флейте. Он сам ее сделал, отказавшись от традиционного бамбука и эбенового дерева ради меди. Металл придавал нотам тоскливый заунывный оттенок, и в этом его флейта была неподражаема.
Мойши стоял у дальнего конца площади и слушал. Он изучал лицо Коссори, снова отмечая его угловатые черты – высокие скулы, широкий нос с точеными крыльями и светлосерые непокорные глаза. Вне всякого сомнения, это было сильное лицо, незаурядное. И все же в нем светилась глубоко затаенная печаль, эхом сквозившая в музыке.
Мелодия окончилась, и Мойши подошел к музыканту. Коссори поднял взгляд, увидел Мойши и улыбнулся:
– Привет!
– Привет, Коссори. Красивый напев. Новый?
– Только утром закончил. – Он протянул руку. – Посиди в тени легенды. Денек выдался жаркий.
Мойши глянул наверх и сказал:
– Мне кажется, что Кайфен был так давно…
– Мгм… Да, человеческий разум великолепно устроен для того, чтобы забывать боль и страдания. Хвала богам, они тускнеют быстрее, чем воспоминания об удовольствиях, которые, сдается, никогда не остывают. – Он сунул медную флейту в вытертый замшевый чехольчик, затем в жесткий кожаный футляр. – Мы легко забыли об этом времени, Мойши, уверяю тебя.
Он пожал плечами. – Мир куда лучше, когда в дело не вмешивается колдовство.
– Есть не только черное колдовство, но и белое, – сказал Мойши, думая о ДайСане.
– Нет, дружите. Насколько я понимаю, все колдовство – дурное цузуру.
Мойши знал, что это словечко на шаангсейском диалекте имеет несколько значений. Он был уверен, что сейчас его друг имеет в виду «магическое заклятие». Но он был удивлен и так об этом и сказал.
– Все эти люди, – он махнул в сторону людной площади, обведя рукой всех спешащих по делам людей, – знают только, что ты прекрасный музыкант, Коссори. Даже регент, думаю, ничего не подозревает. Но я знаю, чем ты владеешь, и не думаю, что твой страх лишь маска.
Коссори вздохнул.
– Больше никому в мире я бы в этом не признался. Мойши, но я и вправду боюсь колдовства. Оно меня пугает потому, что я не понимаю его правил. Я чувствую себя бессильным перед ним, даже вот с этим. – Он сжал кулаки и поднес к своим глазам. – Даже