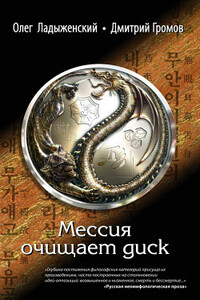Меж темных стволов полыхнуло яркой охрой. Миг, и на опушке, в десяти шагах от Алкмены, возникла девушка. Рыжее пламя волос — по ветру. Рыжая накидка из лисьих шкур — по ветру. Рыжая пыль из-под босых ног — по ветру! Руки вразлет, ноги топчут молодую траву. Тонкая, гибкая фигурка трепетала языком огня. Девушка танцевала. А сын Алкея прирос к месту, обратившись в камень. Прошлое обрушилось на него, воскрешая испуганного мальчишку, проступило сквозь кожу холодным потом, лишило воли и сил. Ему снова десять, и пляшет во дворе безумная женщина, разорвавшая на части своего сына…
«В вакханалии нет жен и сестер, — пробился сквозь годы дедов голос. — Есть тварь бешеная, ядовитая. Подошел — рази. Иначе погибнешь.»
…у дедушки меч. Сейчас он…
У него, внука Персея, тоже есть меч. Но Персей был сыном Златого Дождя. А Амфитрион — всего лишь сын хромого Алкея.
«…рази. Иначе погибнешь.»
Руки отказывались повиноваться. Вот она, рукоять меча. Но дотянуться до нее — проще умереть. Горло пересохло, губы сожгло рыжим огнем…
— Алкмена, назад!
Прохрипел, вытолкнул, выплюнул два слова — и отпустило. Амфитрион мотнул головой, возвращая ясность рассудку. Что за наваждение? Просто девчонка в лесной глуши. Молоденькая, лет тринадцати. Поет, танцует, радуется. Вакха славит? Ну и что? Прошли те времена, когда путники опасались яростных менад. Сгинули во мгле былого. Теперь — празднества, шествия, хороводы; ну, оргии — не без того. Дионисии. Уступи дорогу толпе вакханок — не тронут тебя, пройдут мимо. А уж одинокая вакханка и вовсе безобидна…
Он и перед лицом Зевса Правдивого не признался бы, что испугался не за себя — за Алкмену. Вакхическое безумие заразно. Увидеть Алкмену, забывшую его ради бога… Лучше заранее вырвать себе глаза.
— Рыжая, — Тритон ткнул в девушку пальцем. — Львица, да?
И захохотал басом.
— Скорее уж лисица, — улыбнулся Амфитрион.
— Точно, лиса! Хо-хо-хо!
Алкмена пятилась к мужчинам. Она не знала, отчего пещера людоедов и девица-плясунья пугают ее одинаково. Безопасность была там, где муж. Единственное в мире безопасное место… Кружась в танце, рыжая следовала за ней, не отставая. Милое, остренькое личико, хрупкое сложение, едва наметившаяся грудь; бассара[73] — на голое тело, которое девица без смущения обнажала в пляске; за узкими плечами — капюшон в виде лисьей морды, скалившей клыки…
Песня превратилась в стон. Танец — в гимн страсти. У Амфитриона перехватило дух. Рядом оглушительно сопел Тритон. Ликимний, сопляк, молоко на губах не обсохло — и тот пустил слюну, будто голодный пес при виде куска парной говядины. Всех троих затрясло от возбуждения. Разум тонул в жаркой, влажной пучине; всплывал, погружался, снова всплывал… Ритм завораживал, сводил с ума. Недозрелость девицы представала обещанием утех, какие не снились и бессмертным. Впору сцепиться друг с другом за право первым сжать в объятиях дикую лису.
Девчонка вдруг припала к земле. Вздыбились лопатки под лохматой накидкой; задвигались тугие ягодицы, приподнятые вверх, к небу. Ладони и локти уперлись в зеленый ковер. Трепет изящных ноздрей: лиса учуяла запах…
Мужчины? Самца?
Даже вакханки, раздирающие младенцев, меньше походили на зверей, чем эта юная бассарида. Одержимая Дионисом. Посвятившая жизнь возлюбленному божеству. Отринувшая условности и приличия. Нет, Амфитрион не чувствовал опасности. Скорее уж Тритон размозжит ему дубиной голову, чтобы отнять вожделенную добычу…
Алкмена отступила еще на шаг-другой, заслонив бассариду. Теперь Амфитрион видел лишь пальцы-когти, скребущие мох, да подрагивающую от нетерпения девичью ступню.
— Прочь!
Он грубо оттолкнул Алкмену. Та не удержалась на ногах, вскрикнула, упала — Амфитрион не заметил этого. Краткий миг прикосновения к женскому телу; тайный аромат, кружащий голову; самка, спелый плод, истекая соком, ползла к нему на брюхе. Стонала без слов — чудесным образом слова звучали в сознании, пульсируя в висках горячечными толчками крови: «Возьми Алепо[74]! Алепо хочет тебя!» Алепо… Лиса… Сладкая тяжесть в паху. Восстающая плоть требовала совокупления. Но что-то мешало броситься на самку, навалиться, войти в разверстые врата…