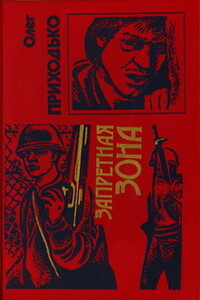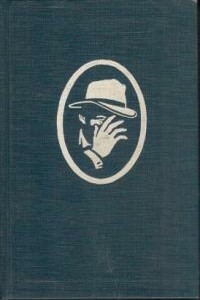К дому, где жил Каменев, Евгений подкатил в одиннадцатом часу.
Старый опер (Каменеву шел тридцать шестой) пил чай и смотрел телевизор. Дверь отворила жена Леля.
— Привет, пропащий, — впустила она Евгения. — Марш руки мыть и за стол! Пельмени будешь есть у Кати, а я ватрушек напекла.
— Пожалуйста, без намеков, — сбросив куртку, он закатал рукава рубашки. — Старый опер дома?
— Молчит, — Леля прошла на кухню, включила конфорку под чайником. — Ты хотя бы позвонить мог!
Молчание Каменева означало волнение. По-другому оно не выражалось. Второй год Сан Саныч, уйдя из МУРа частично по своей, а частично не по своей воле, не работал. Хорошо, что модельер Леля получала приличную зарплату, но и при этом ватрушки в доме становились роскошью. Каменев пил от тоски, по пьянке угрожал преступному миру скорой расправой, строил бредовые планы, касавшиеся собственного устройства и того, как раз и навсегда покончить с мафией — все это было следствием надлома и утраты былой веры в справедливость. Леля не раз просила Евгения поговорить с ним по-дружески, наставить на путь истинный, но, во-первых, такие разговоры Каменев пресекал на корню, а во-вторых, после смерти Петра Евгений и сам сбился с этого пути — год для обоих был прожит впустую.
— Привет, старый опер, — Евгений придвинул кресло поближе к телевизору. — Ну, чего ты дуешься, ей-Богу? «Лайба» стоит у подъезда в лучшем виде, вымыта, заправлена и без единой пулевой пробоины.
Транслировали передачу с каким-то артистом. Скрестив на груди руки и закатив глаза, обрамленные пушистыми, как у девицы, ресницами, он читал стихотворение из школьного учебника, очевидно, полагая, что нашел новую трактовку:
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
— Он поет или говорит, что-то я не пойму, — проворчал Каменев вместо ответа.
— Декламирует.
— Для кого?
— Для нас с тобой, наверно. Все, что делается вокруг, делается для нас.
— Или против нас.
— То, что делается против, в итоге все равно оказывается — для. Закон философии.
— Не помню такого.
— Незнание законов не освобождает от ответственности.
В комнате запахло жасмином — Леля внесла чай. Евгений шумно втянул носом аромат, взял с блюда ватрушку.
— Гран мерси.
— Ты когда в Париж едешь?
— Не знаю, Леля. Спроси чего полегче. Со вторника начну заниматься оформлением.
— Начни с понедельника, — посоветовал Каменев.
— Понедельников и тринадцатых чисел не признаю.
Некоторое время сидели молча. Евгений заметил, что Каменев выбрит и трезв, и по тому, как Леля хлопнула кухонной дверью, понял, что этому предшествовал скандал.
— Да переключи ты этого пидера, — попросил он, жуя ват
рушку.
— На кого? На другого? — Каменев все же встал и выключил телевизор.
— Машина больше не нужна? — спросил он.
— Нужна. Только другая.
— Другой нет. Возьми напрокат.
— Я так и сделаю.
Помолчали. Каменев достал сигареты, развернул кресло.
— Сволочь ты, Женя, — сказал ок неожиданно.
— Есть маленько, — согласился гость.
— Не хочешь старого опера в дело брать, так хоть расскажи. Может, я за консультанта сойду?
— Может, и сойдешь, — Евгений отставил чашку, вытер руки носовым платком. Старательно дожевал ватрушку, достал из кармана обрывок газеты.
— Ну и что? — Каменев пробежал глазами по колонке цифр, написанных ка полях карандашом.
— Соответственно «джип», «хонда», «волга» и «БМВ». Кому принадлежат, сможешь узнать?
Каменев усмехнулся.
— А последний номерок? — хитро сощурившись, он посмотрел на Евгения. — Что за модель?
— «Макаров», естественно.
— И где он?
— В речке утоп. Вместе с «уоки-токи».
— И хозяином?
— Хозяина я не дотащил, некогда было, — Евгений выложил на столик красную книжицу.