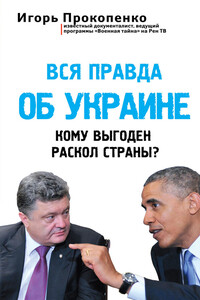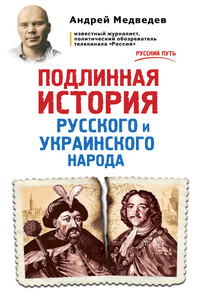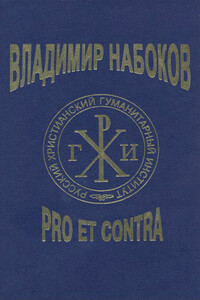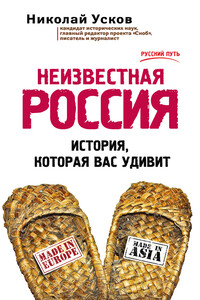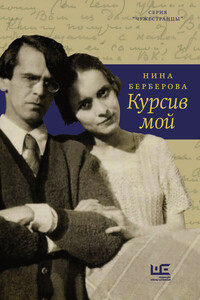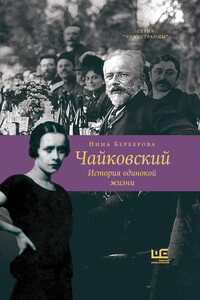Владимир Набоков: Pro et Contra. Tом 1 - страница 23
Эта книга меньше говорит бело-русским чувствам, чем другие мои эмигрантские романы[10], поэтому она будет не так озадачивать и раздражать читателей, воспитанных на левой пропаганде 30-х годов. Простого же читателя порадует простота её построения и завлекательная фабула — которая, однако, все же не настолько банальна, как полагает автор грубого письма в главе 11>{60}.
В книге много живых и занимательных диалогов, а последняя сцена с Феликсом в зимнем лесу, конечно же, доставит читателю немало веселых минут>{61}.
Я не в силах предусмотреть и предотвратить неизбежные попытки найти в змеевиках «Отчаяния» нечто от риторического яда, который я впрыснул в слог повествователя другого, гораздо более позднего романа. Герман и Гумберт сходны лишь в том смысле, в каком два дракона, нарисованные одним художником в разные периоды его жизни, напоминают друг друга. Оба они — негодяи и психопаты, но все же есть в раю зеленая аллея, где Гумберту позволено раз в год побродить в сумерках. Германа же Ад никогда не помилует.
Строка и обрывки строк, которые Герман бормочет в главе IV, взяты из стихотворения Пушкина, обращенного к жене в 1830-х годах>{62}. Привожу его целиком в моем переводе, с соблюдением метра и рифмы — путь, который редко бывает удачным, — даже позволительным — кроме как при редчайшем расположении звезд на тверди стихотворения, как это случилось здесь.
«Обитель дальняя», в которую в конце концов семенит безумный Герман, с подобающей экономностью помещена в Руссильон, где тремя годами раньше я начал писать свой шахматный роман «Защита Лужина»>{63}. Мы оставляем Германа здесь, в нелепом апогее его поражения. Не помню, чем все это для него закончилось>{64}. В конце концов, между нами пролегло пятнадцать других книг и вдвое больше лет. Не могу припомнить даже, был ли снят этот фильм, который он собирался поставить>{65}.
Монтрё, 1 марта 1965
Перевод с английского Георгия Левинтона
© The Vladimir Nabokov Estate, 1966.
© Георгий Левинтон (перевод), 1997.
Предисловие к английскому переводу романа «Король, дама, валет» («King, Queen, Knave»)>{66}
Из всех моих романов этот лихой скакун — самый веселый. Эмиграция, нищета, тоска по родине никак не сказались на его увлекательном и кропотливом созидании. Зачатый на приморском песке Померании летом 1927 года, сочинявшийся в продолжение зимы следующего года в Берлине и законченный летом 1928 года, он был опубликован там в начале октября русским зарубежным издательством «Слово». Это был мой второй русский роман. Мне было двадцать восемь лет. К тому времени я прожил в Берлине, с перерывами, лет шесть. В числе многих других интеллигентных людей я был совершенно уверен, что не пройдет и десяти лет, как все мы вернемся в гостеприимную, раскаявшуюся, тонущую в черемухе Россию.
Осенью того же года Ульштейн купил права на немецкое издание. Книга была переведена (как меня уверяли, вполне удовлетворительно) Зигфридом фон Фегезаком, с которым я, помнится, познакомился в начале 1929 года, второпях проезжая с женой через Париж, чтобы истратить щедрый ульштейновский аванс на собирание бабочек в восточных Пиренеях. Мы познакомились в его гостинице, где он лежал в постели с сильным гриппом, совершенно разбитый, но при монокле, а знаменитые американские писатели меж тем кутили в барах и подобных заведениях, как это у них, говорят, полагалось>{67}.
Нетрудно заключить что русский писатель, выбирая исключительно немецких персонажей (мы с женою появляемся в двух последних главах только для инспекции), создает себе непреодолимые трудности. По-немецки я не говорил, немецких друзей у меня не было, и я не прочитал к тому времени ни единого немецкого романа ни в подлиннике, ни в переводе. Но в искусстве, как и в природе, очевидный изъян может обернуться тонким защитным приемом. «Человеческая влажность», которой пропитан мой первый роман «Машенька» (изданный «Словом» в 1926 году и тоже выпущенный по-немецки Ульштейном), была там совершенно уместна, но книга эта мне тогда разонравилась (а теперь она опять мне нравится, но уже по другим причинам). Герои-эмигранты, которых я выставил напоказ в витрине, были до того прозрачны на взгляд той эпохи, что позади них можно было легко рассмотреть ярлычки с их описанием. К счастью, надписи были не довольно разборчивы, но у меня не было никакого желания продолжать пользоваться методом, свойственным французской разновидности «человеческого документа», где изолированную группу людей достоверно изображает один из ее членов — что до известной степени напоминает взволнованные и скучнейшие этнопсихические описания в новейших романах, от которых делается мутно на душе. В стадии постепенного внутреннего высвобождения (я тогда еще не открыл или еще не осмеливался использовать те совершенно особые приемы воспроизведения исторической ситуации, которые я применил десятью годами позже в «Даре»), независимость от всяких эмоциональных обязательств и сказочная свобода, свойственная незнакомой среде, соответствовали моим мечтам о чистом вымысле. Я мог бы перенести действие