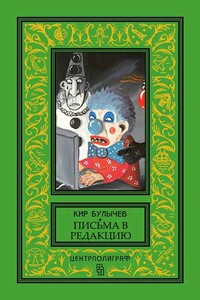Хуже всего было то, что он продолжал по-прежнему слышать индейскую музыку, которая звучала теперь даже громче, четче и настойчивее, чем прежде. До сих пор это была не более чем досадная помеха, один из этих надоедливых фокусов, какие порой выкидывает мозг, когда тема из «Острова Гиллигэна»[52] застревает у тебя в ушах на целый день. Теперь же она превратилась в несмолкающий шум, заполнявший всю внутренность его черепа первобытным грохотом барабана и дикими завываниями стариковского голоса; время от времени Марвин не мог удержаться, чтобы не зажать уши руками — хотя и знал, что из этого не выйдет ничего путного. Он не прочь был даже закричать, но это было бы слишком мучительно.
Памела исчезла где-то около полудня. «Пошла навестить кого-нибудь из своих придурочных подружек, — угрюмо подумал Марвин, — и плевать ей на своего несчастного, богом проклятого мужа». Однако около четырех часов, когда он доковылял до кухни — не то чтобы ему очень хотелось есть, но возможно, небольшая толика еды успокоила бы желудок, — и случайно выглянул наружу через стеклянную дверь, то увидел ее. Никуда она не делась, вот она, внизу, на пляже. На ней было длинное белое платье, и она словно бы танцевала на песке, двигаясь взад и вперед вдоль самой кромки надвигающегося прилива. Ее руки были подняты над головой и она хлопала в ладоши. Марвин не слышал звука, но его глаза уловили ритм: «хлоп-хлоп-хлоп-хлоп» — в полном соответствии с барабаном, бьющим в его голове, и с буханьем крови в его пульсирующих висках.
Солнце наконец опустилось за горизонт. Марвин не стал включать свет — темнота немного успокаивала боль. «Интересно, — подумал он, — неужели Памела до сих пор на пляже?»
— Памела! — позвал он. Потом позвал еще раз, но ответа не было, и Марвин решил, что это не так уж чертовски его заботит, чтобы идти ее искать.
Однако время шло, а Памелы по-прежнему не было видно. В конце концов Марвин поднялся на ноги и зашаркал к двери. Это могло оказаться небезопасным — белая женщина одна ночью на пляже… Кроме того, ему просто необходимо было глотнуть свежего воздуха. Вонь этого дыма была настолько прилипчивой, что, казалось, въелась в саму кожу; у него чесалось все тело.
Он медленно сошел по деревянной лестнице на маленький пляж. Полная луна уже висела на небе и белый песок ярко мерцал. Марвин мог видеть весь пляж, до самой серебристой полоски, отмечавшей отступающий край океана.
Памелы нигде не было видно.
Он двинулся дальше по песку — без какой-либо определенной мысли о том, что ожидает найти. Его ноги, казалось, ступали сами по себе, не спрашивая его разрешения, и он позволял им это. Его тело больше не ныло; даже головная боль прошла. Барабан в его голове звучал теперь очень громко, оглушительным «ПУ-УНГ, ПУ-УНГ, ПУ-УНГ, ПУ-УНГ», однако почему-то это больше его не беспокоило.
На влажном песке ниже линии высокого прилива виднелась цепочка следов от маленьких босых ног, уводившая дальше к воде. Марвин пошел по следам — без спешки и без особенного интереса. Впереди что-то белело, более светлое, чем песок. Дойдя дотуда, он не был очень сильно удивлен, узнав платье Памелы.
У кромки воды следы обрывались. Марвин постоял там некоторое время, глядя вперед, на освещенную луной гладь океана. Его глаза были устремлены куда-то вдаль, на невидимый горизонт. Его нога выбила хрусткий ритм на влажном песке.
Марвин шагнул вперед.
На вершине обрыва, сидя на большом валуне, индейский парень, служивший у Антонио, произнес:
— Вон он идет.
Его дед, сидевший рядом с ним, тихо хмыкнул.
— Сколько времени это заняло?
— С тех пор как вошла она? — Парень сверился со своими дешевыми электронными часами. Подсветка не работала, но луна светила достаточно хорошо. — Полтора часа. Около того.
— Хм-м. Мне казалось, что он не настолько крупнее нее.
— У нее были хрупкие кости.
— Угу. — Старик усмехнулся. — Я видел тебя, когда она сняла с себя платье. Думал, ты свалишься с обрыва.
— У нее было красивое тело, — сказал парень. — Для женщины ее возраста.
Они смотрели, как Марвин Брэдшоу целеустремленно входит в океан. Вода доходила ему уже до пояса, но он продолжал идти вперед.
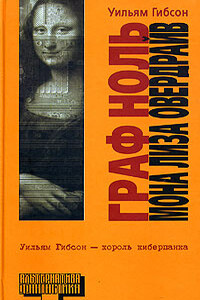

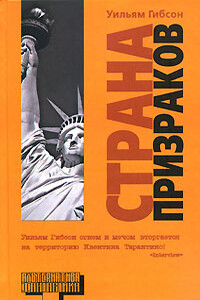

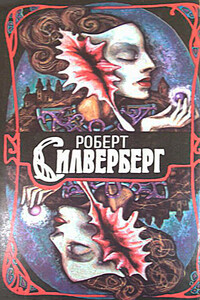



![Братья в опасности! [Грецкий орех]](/uploads/books/images/43/437b47f2df1c21577e350bbc7f95898128c4f3a5.jpg)