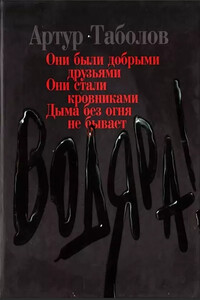XII
Мастерская Артёма Ермакова находилась в мансарде старого пятиэтажного дома на Новослободской улице. Звонок работал, из-за двери приглушенно доносились его трели, но никакого движения не происходило. Понажимав кнопку минут пять, Панкратов понял, что этим ничего не добьётся. Он осмотрелся. На лестничную площадку было выставлено с десяток пустых водочных бутылок. Пыли на них не было, запах не выветрился. Значит, вынесены недавно. Панкратов спустился вниз, проехал к ближнему универсаму и купил литровую бутылку водки «Абсолют». Прибавив к ней пару нарезок из семги и ветчины, попросил положить покупки в фирменный пакет магазина. Вернувшись к мастерской художника, снова принялся звонить и стучать ногой в дверь. Это продолжалось довольно долго. Наконец внутри что-то зашевелилось, недовольный голос спросил:
– Кто?
– Из универсама, – ответил Панкратов. – Доставка заказов.
Дверь приоткрылась, высунулась голова с густой запущенной шевелюрой и черной бородой, кое-как обкорнанной ножницами.
– Я ничего не заказывал.
– Квартира 35-а?
– Ну?
– Извините, что-то напутали в столе заказов.
– Погоди, мужик, – сказала голова. – Покажи, что привёз.
Панкратов продемонстрировал бутылку. Голова проявила интерес.
– Годится. Давай.
– Но это не ваш заказ?
– Может, и мой. Не помню. Заходи.
Художник провёл Панкратова по темному коридору в просторную мастерскую. В центре её стоял мольберт с холстом, закрытым темной тряпицей, а все стены и простенки увешены портретами. И на всех портретах была Ирина Керженцева. Панкратов понял, что попал куда надо.
Художник выгрузил всё из пакета на захламленный стол, на котором выдавленные тюбики краски валялись вперемешку с грязными стаканами и окурками. Нарезки с рыбой и ветчиной он равнодушно отложил в сторону, а водку открыл, понюхал, повторил:
– Годится. Сколько с меня?
– Заказ оплачен.
– Как это?
– Вы уже заплатили.
– Да? – удивился художник. – Блядь, ничего не помню.
Только сейчас Панкратов его рассмотрел. Он помнил, каким Ермаков был на открытии его выставки в галерее Гельмана: в черном фраке, с ухоженной бородкой, высокий, представительный, с породистым лицом. Сейчас это был совсем другой человек: в синем халате, перемазанном красками, от водки не опухший, а как бы усохший, ставший даже меньше ростом, с лицом какой-то нездоровой смуглоты, на котором горели желтые сумасшедшие глаза. Он налил себе водки в первый попавшийся стакан, другой стакан протер полой халата, предложил Панкратову:
– Посиди, мужик. Набегался небось за день. Прими.
– Не могу, я на машине.
– А я приму.
Раздвинув пальцами бороду, чтобы не мешала, влил в себя водку, как воду, закурил и внимательно посмотрел на Панкратова.
– А ты не похож на посыльного. Надо же, на машине. Ты кто, мужик?
– Пенсионер. Пенсия небольшая, приходится подрабатывать.
– Ну, не хочешь, не говори.
– Давно пьёте? – поинтересовался Панкратов.
– Не помню. С месяц. У меня другим голова занята.
– Завидное здоровье. А меня хватало дней на пять. Иногда на семь. Можно посмотреть картины? Никогда не был в мастерской художника.
– Ну, посмотри, – разрешил Ермаков.
Портретов Ирины Керженцевой было не меньше тридцати. И развешены они были не случайно, а в определенном порядке. Как если бы, закончив одну работу, художник принимался за новую, а законченный портрет, чем-то его не устроивший, вешал на стену. Модель всегда была одна и та же, в зеленом шелковом платье с бретельками, с золотистыми волосами, собранными узлом на затылке, с капризным ртом и большими зелеными глазами, затененными длинными ресницами. От картины к картине менялось лишь её лицо. Первые портреты были словно бы пронизаны легким радостным светом, светом юности и весны. И Ирина на них была сама юность и весна, прелестная в ангельской непорочности. При виде её Панкратов почувствовал что-то вроде тоски по тому, чего в его жизни не было и уже никогда не будет. Это было то, о чём говорил следователь Молчанов. Сама мысль, что эта юная женщина может быть причастна к преступлению, казалась кощунственной.
На других портретах менялось лицо, изгиб губ, выражение глаз. Радостный свет сменялся тревожным, даже мрачным. Казалось, что художник мучительно старается передать на холсте то, чего не понимает сам, но видит, что снова не получилось, и берется за новую работу.