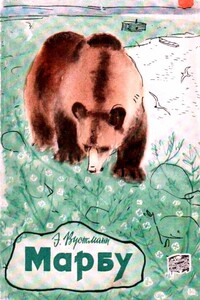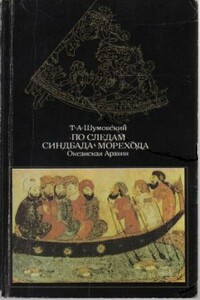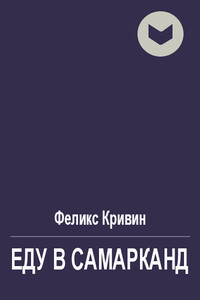Кроме этого исторического воздействия, которое, как ни странно, Мицкевич предсказал, дело филоматов и «Дзяды» имели другие последствия, иногда весьма неожиданные. Например, из-за них распались отношения Мицкевича и Словацкого. Словацкий никак не был связан с филоматами и филаретами, поскольку был на десять лет моложе; кроме того, ходили слухи — впрочем, непроверенные, — что его отчим Август Бекю сыграл в этом деле незавидную роль доносчика. Когда Мицкевича ссылали в Россию, он зашел попрощаться с семьей Бекю, но примерно тогда же этот дом постигло несчастье — спящего профессора через открытое окно убила молния, расплавив кучку серебряных монет у его изголовья. Событие было столь символичным, что Мицкевич не смог удержаться и в дрезденских «Дзядах» изобразил Бекю как шпиона Новосильцева, а его смерть — как праведное отмщение Иуде. Словацкий ему этого не простил. Он тоже эмигрировал и стал поэтом-романтиком — правда, он не был так связан с Вильнюсом, как Мицкевич, но часто говорят, что его стиль отмечен печатью вильнюсской барочной архитектуры. Драмы Словацкого и его любовные стихотворения (его первой и самой сильной любовью была дочь Енждея Снядецкого), наверное, уступают стихам Мицкевича, но он написал несколько почти сюрреалистических философских поэм, уникальных даже в мировой литературе. Упоминая Мицкевича в своих поэмах, он называл его враждебным, но равным автору божеством, а в письмах не скупился на ядовитые отзывы. Одна его фраза поражает комизмом, которого Словацкий, по-видимому, не ощущал: «В Париже, как всегда, тоска зеленая — Шопен играет, Мицкевич импровизирует». Впрочем, может это и выдуманный отзыв, но выдумка во всяком случае хорошая.
Смерть помирила поэтов — останки обоих, хоть и с разницей в несколько десятков лет, были привезены из эмиграции в Краков и захоронены рядом с королями в Вавельском соборе. В Вильнюсе их почтили по-другому. Словацкому поставили в доме, где он жил, в нише рядом с окном, куда влетела молния, скромный белый бюст на лебединых крыльях. Гранитный памятник Мицкевичу стоит между костелом св. Анны и мостом в Ужупис, куда он ходил с друзьями-филоматами. Кстати, памятник этот возник совсем недавно: от другого неосуществленного проекта остались барельефы сцен из «Дзядов», которые окружают фигуру поэта. Именно здесь в 1987 году впервые открыто собрались вильнюсские диссиденты, требуя независимости Литвы. Мицкевичу такое требование показалось бы по меньшей мере странным — литовский патриотизм его стихи пробуждали сильнее, чем что-либо, но сам он считал Литву лишь частью Польши.
Костел св. Игнатия. 1989
Пирушки филоматов и походы филаретов в Ужупис не были похожи на мятеж, но царская полиция вряд ли ошибалась, усматривая в этих студенческих забавах признаки неблагонадежности. Университет немедленно очистили от тех, кого подозревали в симпатии к тайным обществам. Потерял работу Иоахим Лелевель, один из любимых преподавателей Мицкевича. Новым ректором, без выборов, был назначен Вацлав Пеликан. Этот популярный в городе хирург, славившийся красноречием и изысканными манерами, запятнал себя подобострастным отношением к Новосильцеву (в «Дзядах» Пеликан не симпатичнее Бекю). Западная отрава — не без помощи Вильнюса — достигла самого Петербурга; через два года после дела филоматов там произошло декабрьское восстание, участники которого, воспользовавшись кончиной Александра, пытались основать в России республику или хотя бы добиться конституции. Брат Александра Николай, вступивший на престол во время восстания, повесил пятерых декабристов, остальных сослал в Сибирь и на тридцать лет «заморозил» империю — главными учреждениями в ней стали полиция и цензура. Польша с Литвой, однако, не сдались. Ноябрьской ночью 1830 года группа молодых офицеров в Варшаве выгнала русскую администрацию и склонила весь город на свою сторону. Николая, который считался не только русским царем, но и польским королем, лишили варшавского престола. По сути это была война России и Польши, в которой Запад симпатизировал полякам, но им почти не помогал. Словацкий — ему тогда был двадцать один год — опубликовал свои первые стихи как раз в повстанческой варшавской газете. Он сразу добился признания как поэт и вскоре уехал в Лондон дипломатическим курьером от революционного правительства. Тем временем профессор Лелевель стал членом правительства. Именно он придумал лозунг «За нашу и вашу свободу», обращенный к русским солдатам. Эти слова звучали весь девятнадцатый век и даже позже, — их повторяли мои ровесники на русских, польских и литовских диссидентских сборищах.