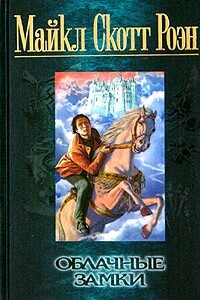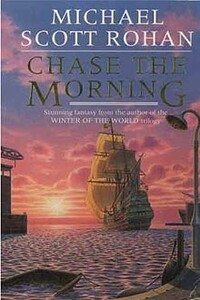Губы пересохли, Юрка провел по ним языком. Ну!.. Они раздумывать не станут, выбросят в проекцию, и готово, выбирайся, как знаешь, если сразу не сдохнешь. Азат первым и толкнет.
Жузг завозился, поднимая выше рубаху. Юрка рывком шагнул к нему. Земля мягко прогибалась под ногами. Пальцы, сжимавшие кость, занемели и мелко дрожали.
Они не пожалеют. Бей!.. Рука ватная, не поднять. Трус! Слизняк! Юрка громко сглотнул.
Азат повернулся, посмотрел без удивления.
– Брось.
Так же он говорил Ичину, когда малек хватался за тяжелое ведро.
Юрка коротко выдохнул и швырнул обломок кости Азату под ноги.
– На, подавись! Другой найду! Все равно зарежу!
Жузг качнул головой:
– Не сможешь. Я слышал твое дыхание. Так не убивают.
– Да пошел ты!
Мышцы болели и подрагивали, будто уголь грузил. Футболка прилипла к мокрой спине, и в прохладном воздухе пробрало ознобом. Азат смотрел с жалостью, точно на калеку. Сказал:
– Тебя будет выводить мать. Ты ее не тронешь.
– Это вопрос? – усмехнулся Юрка.
– Нет.
– Ладно. – Он выплюнул скопившуюся во рту слюну и пообещал: – Мы пойдем другим путем.
А потом табунщики уехали…
Юрка лежал на кошме и равнодушно смотрел, как расцвечивается вышивкой ткань в руках Калимы. Женщина негромко пела что-то тягучее, бесконечное. Жгло под веками, и хотелось плакать.
Не получилось. Ничего у него не вышло. Слабак.
Калима наклонилась, перекусила нитку – песня оборвалась. Женщина расправила ткань и с улыбкой огладила вышивку. Рубашка была маленькая, на Ичина. Юрка смотрел, как смуглая ладонь скользит по цветным ниткам, и отчаянно, до судорог в горле, завидовал мальку.
…Несправедливо. Он хорошо помнит ту осеннюю ночь и все, что случилось после, а от жизни до нее остались лишь смутные тени. Иногда всплывает голос, ласковый, насмешливый: «У-у, какой у меня сынуля!» Запах… Духи? Мыло? Разопревшая овсянка с вареньем? Горячее молоко? Что-то родное, уютное. Байковый халат, на вишневом отвороте – пятно от каши. «У-у, сынуля! Хулиган!» Халат до сих пор висит в шкафу. Пятно отстирали, и ткань пахнет порошком и сухой ромашкой, которую бабушка кладет от моли.
Конечно, остались фотографии. С большого портрета у деда в берлоге улыбается симпатичная девушка, года на три постарше теперешнего Юрки. У девушки темно-русые волосы, сколотые в хвост, круглые глаза и розовые ненакрашенные губы. Она совсем не похожа на маму. Просто студентка-первокурсница.
Но почему он так хорошо помнит тот вечер?
Был ноябрь, уже стемнело. Юрка ходил за бабушкой хвостиком и ныл:
– Ну где ма-а-ма? Ну ба-а-ба, где-е-е?
Дед строго сказал:
– Юрий, прекрати! Ты же мужчина.
Он сердито мотнул головой:
– Я маленький.
Через месяц ему исполнялось четыре года.
Дед шелестел газетой. У бабушки в руках пощелкивали спицы, с них свисал полосатый носок. В корзинке крутились и подпрыгивали клубки. Гремел цепью Дик, беспокоился, бегал от огорода к калитке и обратно. Моросил дождь, и Юрке было жалко пса. Подошел к окну, расплющил нос о стекло.
– Иди в будку, – сказал шепотом.
Дик не услышал.
– Ну, сколько раз говорила! – вырвалось у бабушки.
Дед закряхтел.
– А ты мог бы и построже, отец как-никак.
– Рита, – виновато сказал дед, – ты же знаешь. Как об стенку горох.
Юрка представил: тук-тук-тук, скачут, разлетевшись, желтые сухие горошины, закатываются под стол, застревают между вязаными половиками. Шумно, весело! А летом горох зеленый, в стручках. Мама отрывала усатый хвостик, и стручок распадался на две половинки.
– Ну ба-а-а, а где ма-а-ма?
Бабушка рассердилась:
– Ты почему еще не спишь?
Юрка набычился. Не пойдет он спать, пока не вернется мама.
– Федул, чего губы надул?
Дед притянул его к себе и посадил на колени.
– Кафтан прожег. А большая дыра? Одни рукава остались.
Юрка хихикнул, приваливаясь к деду. Пригрелся на его вязаной безрукавке и задремал, продолжая упрямо думать: «Не пойду!»
Разбудил телефон. Громкие трели звучали слишком настойчиво для ночной поры.
Дед спустил Юрку с колен. Бабушка стояла у журнального столика, но почему-то не поднимала трубку. Спрятала руки под фартук. Мамы все еще не было. Сами собой обиженно припухли губы.
Звонок оборвался – дед снял трубку.