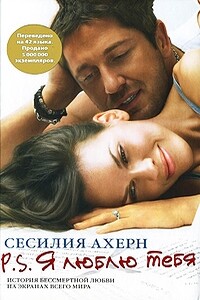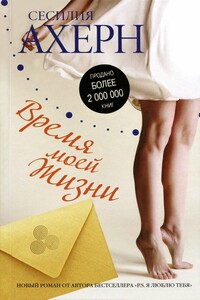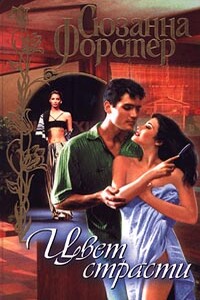– Пап, ты испачкался.
– Я не оставлял его ни на секунду весь день.
Хлюп-хлюп-хлюп…
– Ну хорошо, последняя попытка.
Я сглатываю, паника нарастает, сдавливая грудь, сводит живот. Я слышу дрожь в своем голосе. Его поведение пугает меня.
– Наверное, вернулся на ферму Несси, – говорю я. – Так что с твоей машиной? – спрашиваю.
Он прекращает кружить по саду и поднимает на меня глаза.
– Она не заводится из-за крыс. Идем, – говорит он, махнув рукой, будто он фермер и ведет за собой стадо, хотя папа никогда в жизни не занимался фермерством.
– Крысы? – Я иду за ним. Сначала ягнята, теперь крысы. – Пап, твоя обувь…
Но уже поздно, он оставляет грязные следы на дешевом линолеуме в кухне, затем топает через весь дом и выходит в передний двор. Он поднимает капот машины и заглядывает внутрь. Он смотрит на провода, и, мне кажется, я смотрю на него точно такими же глазами. Что-то тут не так.
– Смотри.
– Я ничего не вижу.
– Двигатель.
– Ну, это понятно.
– Значит, тебе понятно гораздо больше, чем ты показываешь. Я завел машину, и повалил дым. Пришел Джерри и сказал, что крысы устроили там гнездо и сгрызли все провода. Подчистую. Уже не отремонтируешь.
– Значит, крысы? – спрашиваю я.
– Так он сказал. Они основательно закусили проводами.
– Твоя страховка покроет это?
– Нет, мне сказали, нужны доказательства, что крысы съели провода. Я обещал притащить одну из них, чтобы она признавалась в своих преступлениях, но, думаю, эти хитрюги пойдут на сделку с правосудием.
– Господи! – я склоняюсь над капотом. – Отвратительно. Они что, испортили машину за одну ночь или ты ездил с ними в двигателе?
– Не знаю. Думаю, если бы они были там, когда я ездил, я бы сжег их, но что-то я не вижу ни одной мертвой крысы. Но это не объясняет, почему они залезли в рояль.
– У тебя крысы в рояле? – спрашиваю я, не веря своим ушам. При всем моем отвращении к крысам, я рада, что он все же не сошел с ума. Если Джерри знает об этом, значит, папа не выдумывает. А вот дело о ягненке еще предстоит расследовать. Детектив Веснушка берется за работу.
– Да нет, не крысы, – говорит он, когда я догоняю его в музыкальной комнате. – Думаю, это мыши. Домашние мыши.
У него чудесный небольшой рояль. Все мое детство он давал здесь уроки, индивидуальные занятия для детей и взрослых по воскресеньям. Я играла в саду или наверху, в моей комнате, или смотрела телевизор, слушая фальшивые ноты и неуверенную игру учеников и папины терпеливые наставления. Он всегда был терпелив.
Он поднимает палец, чтобы я прислушалась.
Я прислушиваюсь.
В комнате тихо, я ничего не слышу. Только половицы скрипят под моими ногами.
– Ш-ш, – говорит он, раздражаясь, что я мешаю.
Он сосредоточенно смотрит в пустоту, навострив уши. Вдруг он поворачивает голову, будто услышал что-то. Смотрит на меня с надеждой. Я услышала?
– Я… – я прочищаю горло, – я ничего не слышу.
Я пристально смотрю на рояль.
– На нем теперь невозможно играть, – говорит он.
– Может, надо настроить? Сыграй мне что-нибудь.
Он садится. Его пальцы легко перебирают клавиши, пока он думает, что сыграть.
– Моцарт, фортепианный концерт номер двадцать три, часть вторая, – говорит он, больше сам себе, и начинает играть.
Я много раз слышала, как он играет этот отрывок. Прекрасная музыка, сладостно-печальная, но у меня она вызывает неприятные воспоминания. Как-то он купил мне керамическую балерину, которая играла именно эту мелодию, пока крутилась. Надо было ее повернуть, завести, и она играла быстро, но потом замедлялась. Иногда по ночам она неожиданно издавала звуки, пугая меня, и, пока она кружилась сама по себе, я пряталась под одеялом, лишь бы балерина не глядела на меня своими холодными, безжизненными голубыми глазами. Красивая мелодия, когда ее играет папа, но меня она всегда пугала.
У него проскочила фальшивая нота, и он ударяет руками по клавишам. Громко, театрально. На мгновение эхо разносится по всему дому.
– Мыши, – говорит он, отталкивая стул назад и поднимаясь. – Поставлю еще одну мышеловку. – Он открывает крышку рояля. – Это их остановит.
И выходит из комнаты, оставляя за собой запах затхлости.