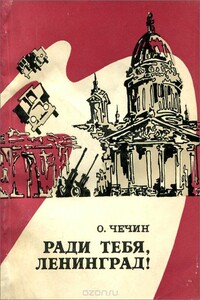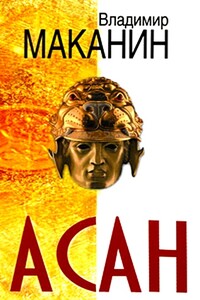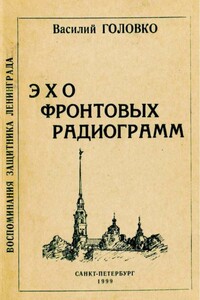– Индейский проповедник! Вот бы я посмотрел - в перьях и буйволовой накидке.
Киова лег на спину, устремил взгляд в потолок и некоторое время молчал. Потом сел и отпил из фляги.
– Пастором - нет, - сказал он, - но в церковь ходить мне нравится. Люблю сидеть внутри. Чувство как в лесу, тишина, и только какой-то звенящий звук, да и тот еле слышен.
– Ага.
– Ты никогда такого не ощущал?
– Бывало.
Киова прочистил горло и сказал:
– Нехорошо это.
– Чего?
– То, что мы здесь остановились. Нехорошо. Как бы там ни было, а все равно церковь.
Доббинс кивнул:
– Это верно.
– В церкви останавливаться нехорошо, - повторил Киова.
Монахи кончили чистить пулемет, и Генри Доббинс собрал его, стер лишнее масло, а потом вручил каждому из монахов по банке персикового компота и по плитке шоколада.
– Порядок, братва, - сказал он. - Диди мау. Ешьте.
Монахи поклонились и вышли из пагоды на яркое утреннее солнце.
Генри Доббинс сделал руками жест, как будто мыл их.
– Ты прав, - сказал он. - Единственное, что можно сделать, - это относиться к ним по-человечески. С добром, понимаешь?
Об этой истории я еще не рассказывал никому. Ни брату, ни сестре, ни родителям. Мне всегда казалось, что если тронуть ее, то это приведет лишь к неловкости, к желанию закрыть уши и оказаться подальше от говорящего - к естественной реакции человека, услыхавшего исповедь. Даже сейчас у меня при воспоминании о ней внутри все переворачивается. В течение двадцати лет я жил с этим, отталкивал от себя, старательно заглушал свой стыд, и вот теперь, записывая все в точности так, как было, я хочу избавиться от мучительных снов. Задача нелегкая. Наверно, всем свойственно представлять себе, как мы в критической ситуации, словно герои юношеских грез, примем любой вызов без колебаний, не уронив себя и не унизив собственного достоинства. Я тоже так думал летом 1968 года. Скромный герой Тим О'Брайен. Вольный стрелок. Когда ставки будут достойны мужской игры, а силы добра и зла сойдутся в открытой борьбе, я зачерпну из тайного запаса отваги, который накапливается во мне в течение всех лет жизни. Смелость, думалось мне, как наследство, отпущена нам в ограниченном размере, и если быть экономным, не тратить ее по пустякам, то на моральный капитал тоже пойдут проценты и мы решительный час встретим во всеоружии. Удобная теория. Она отмахивается от мелочной повседневной храбрости, обыденной трусости придает пристойную окраску, оправдывает прошлое и подслащает будущее.
В июне тысяча девятьсот шестьдесят восьмого, через месяц после окончания колледжа, меня призвали на войну, которую я ненавидел. Мне был двадцать один год - я был молод, наивен, но уже тогда считал войну во Вьетнаме неправильной. Лилась весьма конкретная кровь из-за каких-то непонятных причин. Я не находил ни единства цели, ни философского, ни исторического обоснования. Даже сами факты тонули в тумане истолкований: ведется ли там гражданская война, война за национальное освобождение или происходит просто агрессия? Кто начал ее, когда, зачем? Что на самом деле произошло с американским эсминцем «Мэддокс» той темной ночью в Тонкинском заливе? Был ли Хо Ши Мин коммунистической марионеткой, народным героем, тем и другим вместе или не тем и не другим? Как насчет Женевских соглашений, CEATO и холодной войны? Как насчет эффекта домино? Америка раскололась по этим и тысяче других вопросов, дебаты выплеснулись за пределы Сената на улицы, и многоопытные мужи в безукоризненно пошитых костюмах не могли преодолеть разногласий даже по основным вопросам внешней и внутренней политики. Единственное, что было несомненно тем летом, - это моральная неразбериха. Я думал тогда и продолжаю думать сейчас, что невозможно вести войну, не зная, зачем она. Знание, конечно, всегда неполно, но мне кажется, когда страна начинает войну, она должна быть убеждена в правоте и справедливости отстаиваемого дела. Ошибки неисправимы. Убитые не оживут никогда.
Так или иначе, таковы были мои убеждения, и в колледже я занимал умеренную антивоенную позицию. Ничего сверхрадикального, никаких сумасбродных выходок - не слишком активная агитация в пользу Юджина Мак-Карти да несколько скучноватых, написанных без вдохновения передовиц для университетской газеты. Интересно, однако, что это было чисто умственное занятие. Я вкладывал в него лишь энергию, почти всегда вызываемую отвлеченными устремлениями. Я не ощущал опасности для себя лично, не видел приближения перелома в жизни. С глупым упорством, глубина которого поныне остается для меня непостижимой, я уверял себя, что убийство и смерть не забредут в пределы моих владений.