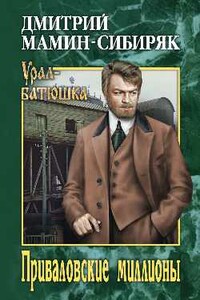— Не понимаю я вашего Григория Иваныча, — повторяла Марфа Даниловна, покачивая головой. — Уж, кажется, умный мужчина, а вот с гордостью своей не может поправиться… И всё от гордости. Вы бы поговорили ему, Анна Николаевна. Ну, пошел опять в земство, извинился, а повинную голову и меч не сечет. Ведь надо жить как-нибудь, а у вас трое детей на руках…
— Прямо сказать, Марфа Даниловна: есть нечего. Вчера за ужином один черный хлеб…
— Вчуже страшно… Что же он-то?
— Всё то же: пишет свои прошения.
Анна Николаевна, несмотря на свою бедность, ни разу не пожаловалась на мужа: она верила в него. Да и не в первый это раз… Марфа Даниловна могла только удивляться её терпению. Нахлынувшая на Печаткиных беда на время охладила отношения семей между собой. Клепиковы и помогли бы, да самим было до сопя: едва сводили концы с концами. А дать пустяки совестно… Это была жестокая проза, от которой делалось жутко всем.
А время шло. Наступало лето. Григорий Иваныч ходил в грязных крахмальных сорочках и в одном сюртуке. От недавнего довольства не осталось и следа, точно оно растаяло. Даже Анна Николаевна приходила в отчаяние, главным образом за ребятишек, которые и голодали, и обносились, и выглядели такими жалкими. Только в середине лета Печаткин нашел какое-то место в пароходной компании «Ласточка», но и здесь прослужил всего недели две. Он не мог выносить канцелярских плутней и вообще хамства. Впереди оставалась одна нищета. Катя теперь реже бывала у Печаткиных, но своими глазами видела, что такое бедность и нищета.
— Мама, у них нет ни чаю, ни сахару… — рассказывала она матери. — Я буду отдавать свой сахар маленькой Соне.
— Перестань вздор говорить, а впрочем, как знаешь. Еще обидятся на тебя же… Ведь не нищие, чтобы кусочками принимать. Конечно, беда со всяким может стрястись, а и их тоже нельзя похвалить: он — гордец, она — не хозяйка.
— Нехорошо осуждать людей в несчастии, — строго вступился случившийся дома Петр Афонасьевич. — Все под богом ходим… Сегодня сыты, а завтра неизвестно. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу…
— Да ведь я так… — смутилась Марфа Даниловна. — К слову сказала. Не нашего ума дело.
— Вот так-то лучше, мать… А ты, Катя, делай, как знаешь.
Петр Афонасьевич потихоньку от жены не раз помогал Печатакиным и деньгами, вырученными за рыбу, и натурой, т. е. той же рыбой. Самому ему было неловко являться благодетелем, и он посылал обыкновенно Якова Семеныча. На старика не могли обидеться, да он и сам умел устроить всё так, что никто не замечал благодеяния.
— Мало ли что бывает, Анна Николаевна, — уговаривал старик горевавшую столбовую дворянку. — Нужно терпеть, — даст бог, и справитесь…
— Ох, и не говорите, Яков Семеныч! Добрых людей стыдно…
Да, беда не только постучалась в дверь, но вошла в дом и заглянула в каждый угол. Маленький Гриша почти целое лето перебивался в Курье, где помогал рыбакам в их работе вместе с Сережей и таким образом пропитывал себя своей работой. Мальчикам ужасно полюбилась эта жизнь в лесу. Они загорели, поздоровели и заметно выросли за одно лето. Раз в Курью приехал Григорий Иваныч, такой задумчивый и молчаливый. Он ужасно похудел, осунулся и точно сделался еще выше. Старый Яков Семеныч долго вглядывался в него, хмурился и бормотал что-то про себя, а потом не выдержал и заговорил:
— Нехорошее у вас на уме, Григорий Иваныч…
Печаткин даже вздрогнул и посмотрел на старика округлившимися от испуга глазами: Яков Семеныч точно подслушал его отчаяние.
— Дедушка, тошно мне… — тихо ответил Григорий Иваныч, хватая голову руками. — Ах, как тошно… И за что?.. Кому я сделал зло? Не умею быть хамом — вот вся моя беда. Не люблю подслуживаться, говорю правду, не даю другим подличать… Да. Что же делать, если я не могу иначе… И семьи жаль, и себя, и тошно мне… Лег бы — и умер.
— Устроится всё понемножку. Не кто, как бог…
Разговорил старик горевавшего, успокоил, пожурил и отправил домой сам. А у Григория Иваныча, действительно, было нехорошее на уме: хотел он броситься в воду. Горе сломило и его. Не мог он видеть голодавшей из-за него семьи.