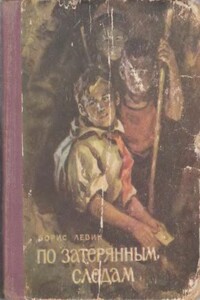— То, что и в штабе, наверно. Сидят пока под Аккерманом и Паланкой.
— Не взял, значит. И чего медлит? Взятие Аккермана и Паланки сейчас бы очень кстати.
— Будем надеяться. Но прости — мне пора.
— И мне. Честь имею! — Каблуки Катаржи простучали по крыльцу и под окном — и все стихло.
Чудак Катаржи! Новость принес и не догадывается, что именно он, штабс-капитан, к этому имеет не косвенное, а прямое отношение. И конечно же еще вчера вечером он знал о том, что полк задунайцев в пути на Бендеры. И командующий знал об этом, даже сделал распоряжение: по прибытии полка выделить для него необходимое количество оружия, сабель, пороха, обмундирования, провианта и фуража. Очень хочется пожелать им ратного успеха, боевой славы и хорошо бы в предстоящей баталии их поставить на менее опасный участок. Но это уже как бог даст, какова будет воля командующего. Он, Котляревский, станет следить за ними, а если удастся, то и побывает у них, обязательно побывает...
Что еще сказал Катаржи? Ах да, о вечерних занятиях. Верно, корпит он, часто мучается и редко радуется — так, наверное, будет всегда, пока он жив. Судьба, видит бог, не легкая, но иной судьбы он себе не желает.
Пора бы к столу, в комнату, где Пантелей, наверно, все уже приготовил: бумагу, чернила, очинил перья и ждет, считает минуты.
Сегодня, если не помешают, он бы закончил картину подготовки боя с латинянами. И, вспомнив об этом, невольно усмехнулся. Гаврилов, задремавший у печки, проснулся и удивился: чему усмехается штабс-капитан, будто увидел нечто интересное, хотя смотрит непонятно куда: в окно, а может, в потолок? Котляревский, погасив улыбку, закрыл картон и шатнул в комнату Мейендорфа, оставив в недоумении старого генеральского ординарца.
Чуть позже, придя к себе на квартиру, Котляревский подвинул на столе свечи и продолжал работать, будто не было утомительного дня. Только не донесения и штабные карты лежали перед ним — совсем иные бумаги интересовали его, мучили и волновали...
Пантелей подождал, пока Иван Петрович поест, и, убрав посуду, тотчас положил на стол походную сумку, придвинул подсвечник, осторожно снял со свечей нагар. В дверях задержался, озабоченно оглядел склонившегося над столом штабс-капитана. Тот уже ничего не видел и не слышал, весь ушел в себя. Черные прямые волосы, еще без единой сединки, упали на высокий лоб, на худощавом тонком лице светились желтоватые блики свечей.
«Зачем он так долго и внимательно смотрит в окно, что увидел там», — подумал Пантелей и тоже присмотрелся. Ничего особенного — за окном темная ночь, лишь изредка вспыхивали, оживляя на какой-то миг ночную бесприютность, далекие огоньки в казармах и на горе, в старинной крепости. Ах, вот что! Форточка — будь она неладна — неплотно закрыта, а ветер холодный, дует, аж свистит. Как же он сплоховал? Но подойти и закрыть не решился: штабс-капитан не любил, если во время работы мельтешили перед глазами, отрывали от дела. А закрыть надо, ведь и простудиться недолго, лихорадку схватить, еще этого не хватало. Как же закрыть-то ее, проклятую? Дундук, соображения и на грош нет. Можно и снаружи придавить. Пантелей на цыпочках переступил порог, вышел на крыльцо.
Он знал: теперь для командира ничего, кроме его писаний, не существует. Ни войны, ни армии, ни самого Мейендорфа, который в любое время, если потребуется, может вызвать и услать с каким-нибудь сверхсрочным поручением, что, как потом окажется, можно бы выполнить и три дня спустя. Но приказ есть приказ, и тут барон неумолим, да и штабс-капитан, как видно, всегда с ним согласен, потому как ни разу не слышал Пантелей, чтобы он когда-нибудь сказал слово против или усомнился в правильности распоряжений начальства. Долг для штабс-капитана — превыше всего.
Но теперь, в этот поздний вечер, Котляревский целиком во власти охвативших его волнений, мыслями он далеко от Бендер, армии и штаба. Никто бы не узнал нынче в этом отрешенном от всего на свете человеке исполнительного, точного до педантизма адъютанта командующего вторым корпусом Задунайской армии. В длинном теплом халате, небрежно наброшенном на белоснежную сорочку, он походил на ученого-отшельника. В эти часы его заботила судьба одного из легендарных героев седой древности. При мысли о древности Котляревский загадочно усмехнулся. Древность? Уж не археолог ли он или историк? Нет, господа хорошие, нет, его больше заботят дни быстротекущей жизни и люди, которых он знает, наблюдает в каждодневных трудах и заботах. Похождения Энея — это, может, способ показать день сегодняшний, умный читатель поймет автора, ему не нужны объяснения.