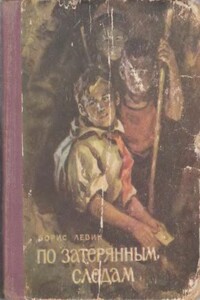Почти одновременно Никитенко ввел татарина, а штабс-капитан Вульф — старого винодела, отца известного в штабе русской армии Стефана.
Не медля ни секунды, Мейендорф обратился к татарину:
— Как зовут тебя?
— Абдалла, эфенди. Я пастух Селим-бея. Берегу его отары.
— Старшего сына Агасы-хана?
— Да, эфенди, да продлит аллах твои годы.
Абдалла молитвенно сложил на груди руки и собирался упасть на колени, но Вульф, стоявший рядом, толкнул его под бок, и Абдалла выпрямил спину, поднял голову, глаза на желтом морщинистом лице мгновенно сверкнули и тотчас потухли, прикрылись веками.
— Скажешь правду — отпущу, не скажешь — пеняй на себя.
— Я пастух и ничего не знаю, эфенди, клянусь пророком.
— Откуда у тебя наш конь?
Татарин умудрился все же упасть на колени и поднял руки:
— Не угонял я коня. Клянусь священным кораном, эфенди!
— Значит, его кто-то другой привел к тебе?
Абдалла знал, как достался конь Селим-бею, из рассказа подпаска, приехавшего к отаре на этом же коне. Подпасок рассказал Абдалле, будто Селим-бей вместе с братом своим Махмуд-беем схватили русских и будто бы собирались как агентов отвезти в Измаил. Это он, подпасок, слышал от Эльяса, молодого Махмудова нукера. Как же обо всем этом рассказать здесь, в доме русского паши? Это страшно. Но опасно также и скрывать правду, потому что ничем не объяснишь, как попал к нему, пастуху Селим-бея, конь, принадлежавший русским.
Сложив руки на животе и полузакрыв глаза, Абдалла что-то невнятно бормотал, делая вид, что молится, время от времени проводил ладонями по лицу, маленькой редкой бороде. Это была явная уловка, чтобы оттянуть время, собраться с мыслями и решить, как поступить, как выпутаться из этой истории, не сулившей ему ничего хорошего.
Ему верили, терпеливо ждали, пока он кончит молиться. Лишь отец Стефана, старый молдаванин-винодел, хорошо знавший обычаи местных татар, видел уловки Абдаллы: татарин не станет молиться, если не пришло время намаза. И старик, которого волновала судьба сына, предупредил Абдаллу, что русским давно все известно, и если татарину не надоело видеть своих детей и внуков, то пусть он не увиливает, а все как есть расскажет и пусть вспомнит, где он в последний раз видел его сына — Стефана, что с ним, здоров ли он? Абдалла покачал головой, давая понять, что он ничего не знает о сыне старого винодела, а что касается русских, то кое-что он слышал от подпаска. Абдалла здраво рассудил: если русским известно о Стефане, то и судьба офицеров им также известна. Абдалла повторил: он знает немного, кое-что.
— Что именно? — винодел схватил татарина за ворот.
— Оставьте его, домнуле, — сказал Мейендорф. — Пусть помолится.
— Он уже помолился и посовещался с самим Магометом. Не так ли, Абдалла?
— Я скажу, но я ничего сам не видел. Мне рассказал подпасок...
— Что же он рассказал?
— Селим-бей вместе со своим братом отнял у русских коней.
— А кто его брат? — спросил Никитенко. Глаза его сверкали, весь он дрожал, его трясло, он ничего не мог с собой поделать.
— Махмуд-бей, — Абдалла оглянулся и закрыл голову руками: ему показалось — русский вот-вот выхватит саблю, он, кажется, уже взял ее. Старый татарин не раз видел людей в таком состоянии и знал, что можно от них ждать.
— Поручик, прошу выйти и подождать за дверью, я позову вас, — сказал Мейендорф, увидев движение Никитенко и испуг татарина.
Никитенко круто повернулся и вышел в соседнюю комнату. Тут находился и Гаврилов.
— Нехристь, погубитель, он все знает, а молчит, — шептал Никитенко. — Клянется кораном, собака!
— Знамо дело, знает, а молчит, потому, ваше благородие, сказать правду — лишиться живота своего.
Между тем Мейендорф, кое-как успокоив татарина, потребовал рассказать все, что ему известно от подпаска, сказать только правду, какой бы она ни была жестокой.
Генералу хотелось, чтобы Абдалла отверг его подозрения; Селим-бей, отняв понравившегося коня, отпустил офицеров, и они вот-вот возвратятся. Но Абдалла, испуганный, онемевший, смотрел на старого русского пашу с большой звездой на мундире и ждал, ждал его слова и, не выдержав, упал ниц перед ним: