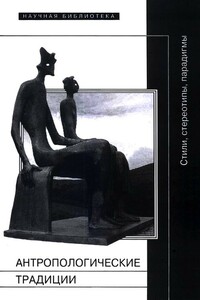Детская литература не могла существовать в отрыве от более широких проблем советской культуры [319]. В случае с Волковым детские книги оказались подходящим полигоном для испытания идей, впоследствии «доросших» до взрослой жизни. Вторжение Волкова в тему воздухоплавания, может быть, и не стало прямым источником вдохновения для молодых жителей СССР, но его догадка о том, что пересечение истории с фантастикой — это настоящая золотая жила, оказалась очень точной. Обращения к жанрам легенды и сказки в конце 1930-х — начале 1940-х годов постепенно превратились в своего рода инфантильную историографию, в которой легенды были верны не только по духу, но и в букве тогдашней науки.
18 августа 1937 года на подмосковном Тушинском аэродроме состоялось грандиозное представление — Советский Союз праздновал свой пятый День авиации. Самым запоминающимся в программе этого действа стал гигантский портрет Сталина, взмывший в небо над толпой на аэростате (см. Bailes, 393)[320]. В последующие несколько лет в детских книгах Волкова получат развитие главные элементы этого шоу: с одной стороны, русский воздушный шар как символ советского научно-технического прогресса и приоритета; с другой — волшебник-правитель, чьи полеты в небо и обратно (и честолюбивые замыслы, будь то строительство Москвы или Изумрудного города) приводят народные массы в благоговейный трепет.
Однако напрашивается вопрос: не могло ли получиться так, что одна волковская книга остудила националистический пафос другой? Вряд ли можно представить себе более проницательный и красноречивый отклик на День авиации 1937 года, чем слова волшебника Гудвина из книги, вышедшей двумя годами позже:
… В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом…
— Кем? — не поняла Элли.
— Бал-ло-нис-том. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном водородом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватило ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки и опустился в удивительной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за Великого Волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза (впрочем, там не было критиков!). Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием (Волков 1939, 94).
В свете склонности Волкова к вымарыванию из «Волшебника страны Оз» политических намеков не вполне ясно, как читателю предлагалось понимать этот пассаж, который просто-таки напрашивался на политическое истолкование. Волховский волшебник оказывается актером, чьим звездным часом стала роль правителя: он сыграл ее столь убедительно, что в награду получил целую страну. Кого должны были представить советские читатели в роли «легковерных людей»? Жителей города, которому предстояло стать Изумрудным? Американцев? Самих себя? Здесь волковский волшебник явно следует баумовской традиции двусмысленных сатирических острот и ситуаций.
«Волшебник страны Оз», как и его советский отпрыск, — сказка в высшей степени неоднозначная, которую к тому же неоднократно пытались присвоить. Многие американцы писали продолжения к баумовской серии; чрезвычайно популярная экранизация «Волшебника страны Оз» тоже имеет довольно мало общего с оригинальным текстом. Можно даже зайти еще дальше и предположить, что «Волшебник страны Оз» не только описывает грандиозное надувательство, но и сам создает атмосферу, в которой подлинность и оригинальность оказываются далеко не самыми важными свойствами человека и художника. Превращение мнимых и даже ложных свойств в «подлинные» — операция, многократно встречающаяся в оригинальных сказках о стране Оз. Мало кто из читавших эти книги (или видевших фильм) помнит, что Изумрудный город основан на обмане: всем, кто попадал в него, выдавали зеленые очки, которые нельзя было снимать (больше того, они запирались на замок). То, в чем Волшебник признается Дороти и ее друзьям, относится и ко многим юным читателям: «Но мои подданные носят зеленые очки так давно, что большинство из них и впрямь считает, что город — изумрудный» (Baum, 188).