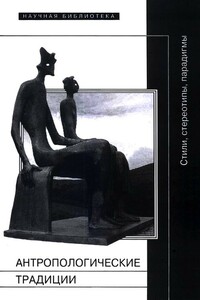Веселые человечки: культурные герои советского детства - страница 54
От других советских трикстеров Буратино отличает онтологическая чистота трикстерства — он абсолютный озорник, проказник, нарушитель конвенций, хулиган, наслаждающийся самой игрой превыше ее результатов. Он наиболее безыдейный персонаж советской культуры, никак не связанный ни с какими социальными или идеологическими моделями [244]. Именно поэтому, кстати говоря, советский постфольклор так увлеченно развивает мотив сексуальных эскапад Буратино — они не требуют никаких социально мотивированных декораций. Буратино, возможно, впервые в русской культуре манифестирует сосредоточенность на том, что американцы называют fun, То have fun любой ценой и в любых обстоятельствах, вне какой бы то ни было прагматики — этот веселый гедонизм воплотился в Буратино острее, чем где-либо, и именно им объясняется живучесть этого архетипа в постсоветской культуре[245]. Более того, представляя собой один из блестящих примеров советского симулякра (ничем не хуже хрестоматийного Микки-Мауса), Буратино вместе с тем выявляет позитивный — иначе говоря, креативный, игровой — аспект симуляции, проступающий острее всего в период постмодернизма.
Что же касается собственно постмодернистской культуры, то в ней — вопреки ожиданиям — Буратино, как правило, выступает в качестве трагического медиатора. Так, например, в рассказе Алексея Цветкова-младшего «Последняя речь Буратино»[246] описывается уход Буратино от власти после, казалось бы, окончательной победы над всеми врагами. Вот как описана сцена отречения героя:
«Император был неодет, не считая дурацкого колпачка, давно забытого всеми, на лице его нагло торчал прежний острый нос, а в руке не было текста торжественной речи. Ни у кого не хватило духу, чтобы выкрикнуть приветствие. Буратино поднял руку и сказал следующее: „Кукольный народ нового театра! К тебе обращается деревянный человечек, брошенный когда-то бульдогами в пруд за бездомность, безденежность и безработность, перехитривший бородатого диктатора и отыскавший ключик от всех дверей. Год назад мы порвали старые холсты, прятавшие от нас главную дверь, мы заставили бульдогов вылизывать наши задницы и сделали ключик гербом империи. <…> Сегодня мне придется сказать правду. Ключик больше ничего не открывает, потому что мы сменили замки, я оставляю это ненужное сокровище вам на память. Начинается новая пьеса, но не та, которой вы ждали, а та, о которой вы, занятые только прошлым, ничего не хотите знать. Вы забросили мечту о чуде и набиваете карманы валютой с моим профилем, ваши прилежные дети за партами плюются в мои портреты жеваной бумагой… <…> Цели нет. Вы добились, чего хотели. У каждого есть шанс оказаться в постели с Мальвиной или, по крайней мере, посмотреть ее последнее шоу.
Я нашел сегодня в кармане старой куртки пять забытых монет. Я ухожу, захватив только их, заступи дурацкий колпак. <…> Мне не жаль оставить ваш убогий всегда один и тот же театр“».
Цветков, по-видимому, пытался изобразить образцового анархиста, сознающего обман и тупость любой — даже своей собственной — власти. Но убедительность этой агитке придает именно «память образа» Буратино как играющего трикстера-медиатора. Позиция власти помещает его на одном из полюсов бинарной оппозиции и тем самым закрывает возможность игры, исключает медиацию и гарантирует деградацию бывшего трикстера. Причем кажется, что этот эффект необратим. Недаром уход Буратино, несмотря на обещание «новой пьесы», куда ближе к признанию им собственного поражения и смерти; Это подтверждается и финалом рассказа: «Вечером, никем не узнанный, деревянный человечек с заступом в руке покинул столицу через восточные ворота. Пьеро сообщил газетам, что император сошел с ума, находится в исправительной мастерской и власть переходит к временному кукольному комитету, однако народу больше понравился слух, будто Буратино ушел, чтобы вырыть себе могилу».