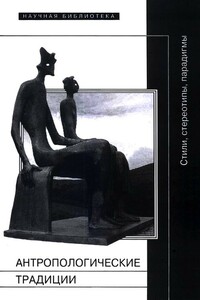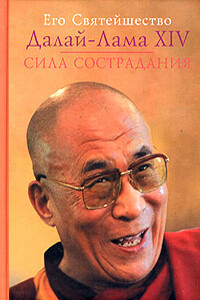Веселые человечки: культурные герои советского детства - страница 12
«Чебурашки», другими словами, не только материализовали пределы знаковой системы. Они также продемонстрировали ее фундаментальную нехватку. Важным в жизни позднесоветских «монстров» стало не их неявное обещание возможности вернуться к исходному символическому порядку. Важной была зафиксированная этими полузверушками неспособность существующего порядка реализовать на практике свою прямую задачу — прочно встроить субъекта в систему классифицирующих «клеток». Советские монстры, таким образом, не столько предупреждали о дестабилизации системы, сколько приучали жить в состоянии промежутка, точнее — в состоянии промежуткости [59].
Подобная гибридизация не обещала ни освобождения от давления системы, ни помощи в овладении ею [60]. Однако отсутствие вакантных «клеток» оправдывало и делало возможным «блуждающее» существование чебурашек разных мастей — будь то скитальческая жизнь Карлсона, миграция Дяди Федора и Кo в Простоквашино или, допустим, полуживотная жизнь Маугли.
Показательно, что, выступая на концерте «Песни года» в 1972 году (песня про голубой вагон вошла в число финалистов), Эдуард Успенский призывал своих маленьких читателей помочь ему с созданием продолжений к популярному мультфильму. Как выразился писатель, ему нужны истории о «способах нарушения порядка, которые более-менее дозволены» [61] (Илл. 4).
Илл. 4. Эдуард Успенский и Роман Качанов дарят солистам детского хора портреты героев своих мультфильмов. Новогодний концерт «Песня-72»
Позднесоветские «гибриды» и «помеси», не стесненные цепочками смыслов, оказывались на положении не просто скользящего, но постоянно ускользающего означающего, чьей единственной целью, судя по всему, было стремление обнаружить сбои в символическом порядке [62]. Не имея ни устойчивой позиции, ни сколько-нибудь серьезной оппозиции, эти монстры позднесоветской субъективности вели жизнь «свободных радикалов», нарушая «более-менее дозволенными способами» символический порядок той самой культуры, которая была не в состоянии их найти для них подходящую «клетку». Марк Липовецкий в своей статье точно отмечает структурную суть этого явления. Как пишет Липовецкий, «онтологическая чистота» персонажей типа Буратино, отсутствие у них какой бы то ни было заземленности в конкретном социально-политическом контексте привели к тому, что сам процесс медиации — в его негативной (нарушение конвенций) и в его позитивной (посредничество между сферами) формах — приобрел повышенную эмоциональную и повествовательную привлекательность. Существенными оказались не столько сами коды и формы деятельности, сколько возможность их смены.
Советские кино- и анимационные персонажи, разумеется, были не единственными областями, давшими жизнь означающим, ускользающим от привычных оков смысла или сбивающимся на ритм, выходящий за пределы традиционных «дробей и маршей».
Сходную тенденцию можно проследить, например, и в популярной поэзии для детей. В 1960-1970-е годы отчетливое стремление детских поэтов устранить какие бы то ни было двусмысленности в понимании того, что «такое хорошо и что такое плохо», столь типичное для раннесоветского периода, дополнилось еще одной тенденцией. Приведу лишь два примера.
Популярная книга Самуила Маршака «Детки в клетке» (1923) строилась на повторении одного и того же приема — изначальная (ошибочная) антропоморфизация зверей всякий раз деконструировалась и дезавуировалась посредством введения значимой детали [63]. Благодаря такому остранению преодолевалось исходное слияние смысловых кодов и становилась возможной символическая дифференциация объектов и понятий: означающие и означаемые казались связанными в устойчивые пары [64]. Педагогическая мораль воспитания была прозрачной: «Эй, не стойте слишком близко — / Я тигренок, а не киска!» [65]. Детенышей и детей разделяла решетка смыслов [66].
К позднесоветскому времени эти решетки смыслов казались в значительной степени расшатанными. Стихи Агнии Барто этого периода — яркий пример общей тенденции. Если ее ранние четверостишия отличала определенная укорененность в некоей экзистенциальной травме («вот доска кончается, сейчас я упаду»), то к 1970-м годам в ее стихах для детей стало все отчетливее проступать чувство моральной дезориентированности