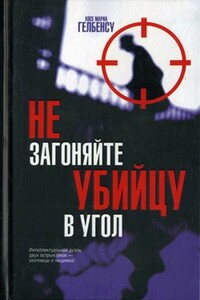Я не говорю о милосердии. Церковь всегда превозносит малые добродетели — милосердие, благотворение… но не приемлет сильных страстей.
Это совершенно безосновательно. И это говорю тебе я — закоренелый атеист.
Именно поэтому ты в конце всех концов и потребуешь соборования.
Что ж. Если это будет так, ты это увидишь, когда наступит срок.
А быть щедрым с самим собой прежде и превыше всего означает: не быть эгоистом. Таким, как ты, который всегда ухитряется свести любой разговор к разговору о своей персоне.
Время идет. Ты по-прежнему твердо намерена уехать?
Да. Думаю, что да.
Ты оставляешь меня безутешным.
Я знаю, и мне жаль. Но сейчас мне нужно на самом деле побыть одной.
Одной? Ты же возвращаешься в Мадрид.
Я говорю тебе о состоянии души; не знаю, о чем ты там думаешь, ну, не можешь же ты быть таким тупицей. Я несу в себе нечто такое, что сейчас пока еще слишком мощно для меня, поэтому мне и требуется одиночество.
Здесь одиночества сколько угодно.
Но здесь ты. Не обижайся, но ты вносишь возмущение. А мне нужно побыть наедине с самой собой.
В Мадриде?
Господи, какой же ты зануда. Что я буду делать в Мадриде, с Мадридом или без Мадрида, тебя никак не касается.
Я знаю, ты уедешь в Англию. Я слишком хорошо знаю тебя.
Нет, ты меня больше не знаешь, даже если тебе это и не по вкусу.
Не по вкусу? Забавно. Ну да ладно. Обещай мне по крайней мере, что не оборвешь нашу переписку, даже если отправишься в страну Китса. Ты же знаешь, у меня нездоровые интересы, а это дело весьма привлекает меня, вот я и хочу знать, чем оно кончится.
Ты уже это решил. Все твое нездоровье — чистое тщеславие. Ты будешь в восторге, если на поверку все окажется так, как ты думаешь: мой отъезд — это бегство вперед. Тебе всегда безумно нравилось быть правым, иметь возможность сказать: говорил я тебе… Ты просто жить без этого не можешь. Теперь я думаю, что это происходит, когда человек соглашается войти в твой круг, где ты устанавливаешь нормы и можешь руководить судьбами людей, принимающих этот комплекс норм за полное и замкнутое видение мира. Но мир и реальность необъятны, и пытаться управлять ими — все равно что воздвигать ворота посреди поля.
Мне и в голову бы не пришло претендовать на нечто подобное. Не думаю, что ты говоришь это всерьез — разве только считаешь, что я превратился в полного идиота, а если так, тем хуже для тебя.
Я знаю, в твоей голове никогда не могла бы родиться идея, что реальность можно взнуздать, но ведешь ты себя так, будто это возможно. В этом и заключается разница. Потому что ты не стараешься стать лучше, да, думаю, никогда и не старался, и это позволяет тебе жить таким вот двойственным образом; может, тебе хотелось стать самым лучшим, да, это как раз возможно. Может быть, под тем, как ты живешь, словно бы проходя мимо всего и надо всем, глядя на все свысока, есть бездонный, полный до краев колодец тщеславия, из которого ты пьешь; но ты никогда не желал стать лучше — ты только желал других. Может, ты причинял вред, много вреда, многим людям, приходившим к тебе за знанием, и, уча их, ты забирал у них душу. Ты никогда не задумывался об этом?
Признаюсь: мне хотелось бы забрать твою душу.
Сейчас? Зачем?
Не знаю, что сказать. Просто мне бы этого хотелось.
Я начинаю думать, что ты всегда был таким — всегда старался завладеть человеком: стремление завладеть, замаскированное под блеск. Я говорю «блеск», потому что у блеска есть особое свойство — он ослепляет. Может, и ты ловишь людей так же, как ловят насекомых, привлекая их светом.
Да, это и есть мой метод, ты раскрыла мой секрет. Однако с тобой мне это не удалось.
Послушай… вот я сейчас вспомнила… ту историю, что ты рассказывал мне, — ту, о твоем друге.
О моем друге?
Да, о том, у которого жена покончила с собой.
A-а, да, верно.
Насколько я помню, ты сказал: твой друг обнаружил, что его жена неумна.
Так оно и было.
И — поправь меня, если я ошибаюсь, — все, что случилось потом, весь этот сомнительный договор шел оттуда, от того факта, что, обнаружив отсутствие ума у жены, он решил продолжать совместную жизнь с ней, но только формально.