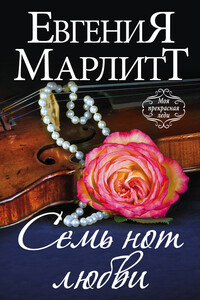Хайнц и батрак из соседней деревни вынесли багаж. Мягко, но настойчиво Илзе вывела меня за дверь, на пороге которой мои ноги застыли как заколдованные. Я слышала, как в замке поворачивается ключ, а затем Илзе отогнала кур и уток, которые собирались проводить нас за ворота; Мийке, запертая в гумне, протестующе мычала… Наконец и ворота захлопнулись за нами, и я уходила из рая моего детства тем же путём, которым когда-то уехала фройляйн Штрайт…
Как я расставалась с Хайнцем, я описать не могу. Надо всем утром прощания для меня до сих пор висит завеса из слёз. Я знаю только, что я изо всех сил обхватила руками моего милого, доброго, плачущего друга, и, не обращая внимания на широкую шляпу, прижалась лицом к его старой куртке, и что он, окружённый глазеющей деревенской ребятнёй, вытирал слёзы огромным клетчатым платком, а я садилась в коляску, которая должна была отвезти нас на ближайшую почтовую станцию.
Было уже около полудня, когда мы, уставшие, с одеревенелыми руками и ногами, прибыли наконец в К. Половину предыдущего дня и всю ночь мы ехали по железной дороге. Новые впечатления совершенно обессилили меня. Солнце висело прямо над нашими головами и, казалось, собиралось сжечь дотла и нас, и стоящие вокруг дома, и плюющийся паром поезд.
— К господину доктору фон Зассену! — распорядилась Илзе, обращаясь к двум носильщикам, которые грузили наш багаж на повозку.
— Такого не знаю! — отрезал один из них.
Илзе назвала адрес.
— Ах, большой магазин семенной торговли — фирма Кладиус? Ясно, ясно! — сказал он почтительно, и повозка тронулась с места.
На бульваре, который вёл от вокзала в город, нас накрыло удушающее облако пыли, а широкие газоны у дороги и красивые каштаны над нашими головами были покрыты серым налётом — словно на землю выпал пепел… Но здесь, по крайней мере, ощущалось дуновение ветра; а вот на улицах, по которым мы должны были следовать дальше, стояла тяжёлая, свинцовая духота. То справа, то слева открывался поворот в какой-нибудь узкий переулок, и в его брусчатке слепяще отражалось солнце — мне казалось, что изнемогающие от жары камни сочатся паром или выбрасывают искры… Ах, где моя цветущая долина, освежающий запах вереска и прохладные, шелестящие дубы вокруг Диркхофа!..
— Тут ужасно, Илзе! — застонала я, когда она схватила меня за руку и спешно затянула на тротуар — из-за угла выскочил какой-то экипаж. До сих пор нам по дороге попадалось мало людей — в полуденную жару улицы опустели. Но вдруг вдали раздался барабанный бой и свист.
— Парад военного караула! — вслушиваясь, сказала Илзе с довольной улыбкой — должно быть, в ней ожили старые ганноверские воспоминания двадцатипятилетней давности.
Шум парада быстро приближался, и внезапно на улицу хлынула толпа людей.
— Эй, поглядите-ка вот на это! Провисела в шкафу сто лет! — закричал какой-то мальчишка и встал перед Илзе. Он поставил себе на голову два кулака, один на другой, изображая, несомненно, Илзину шляпу, и скорчил рожу. Все вокруг засмеялись, заулюлюкали, и даже двое наших носильщиков украдкой ухмыльнулись.
— Уличные мальчишки! — сказала Илзе, презрительно вздёрнув подбородок. К моему облегчению, мы как раз свернули в тихую улочку. — В Ганновере люди всё же более вежливые и воспитанные — со мной там такого ни разу не случалось!
Во мне трепетал каждый нерв, я чувствовала глубочайшее унижение — Илзе, которую я боготворила, стала предметом насмешек!.. Я прижала её правую руку к своей щеке — руку, которая всю жизнь защищала и берегла меня. Усталые ноги механически несли меня дальше. Шум парада позади нас постепенно утих, и наконец носильщики остановились на отдалённой тихой улочке с респектабельными домами. Мы стояли перед мрачным каменным зданием. Все окна на первом этаже были забраны в решётки, а к высокой входной двери вело крыльцо с красивыми железными перилами. Наверное, старый дом со своим массивным фасадом выглядел внушительно; но меня привели в отчаяние оконные решётки и почерневшие стены, на которые не падал ни один луч света. Мне казалось, что тяжёлая деревянная дверь, украшенная богатой резьбой с вычурными завитушками и чудовищной, начищенной до блеска латунной ручкой, уставилась на меня, словно тёмная, страшная загадка.